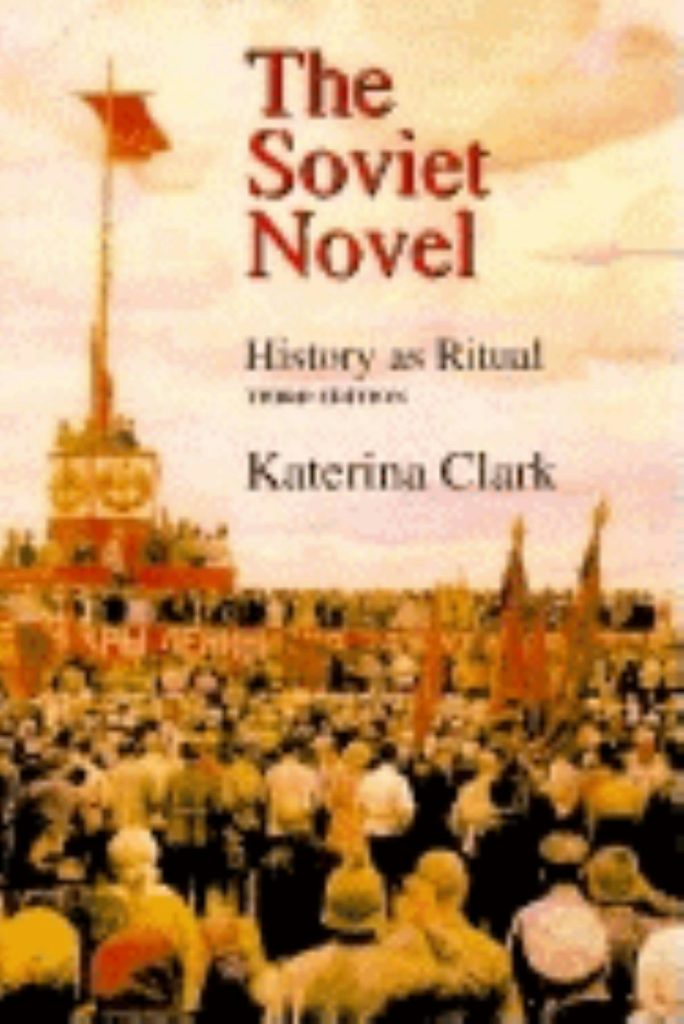
 В «Петербурге...» Кларк решила уточнить представление о том, что соцреализм 1930-х годов возник в результате подавления авангардного искусства предыдущего десятилетия. В целом соглашаясь с такой трактовкой, она отказывалась от дихотомии авангард/традиционализм и предлагала ей на смену пару иконоборчество/монументализм.
В «Петербурге...» Кларк решила уточнить представление о том, что соцреализм 1930-х годов возник в результате подавления авангардного искусства предыдущего десятилетия. В целом соглашаясь с такой трактовкой, она отказывалась от дихотомии авангард/традиционализм и предлагала ей на смену пару иконоборчество/монументализм. 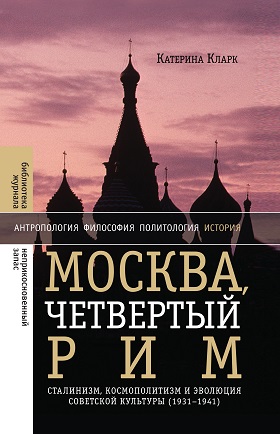 «Петербург...» и «Москву...» объединяет не только ревизионистский пафос. Как можно догадаться по названиям, важную роль в них играют культурные мифы, связанные с двумя российскими столицами, и их функционирование в сталинский период.
«Петербург...» и «Москву...» объединяет не только ревизионистский пафос. Как можно догадаться по названиям, важную роль в них играют культурные мифы, связанные с двумя российскими столицами, и их функционирование в сталинский период. 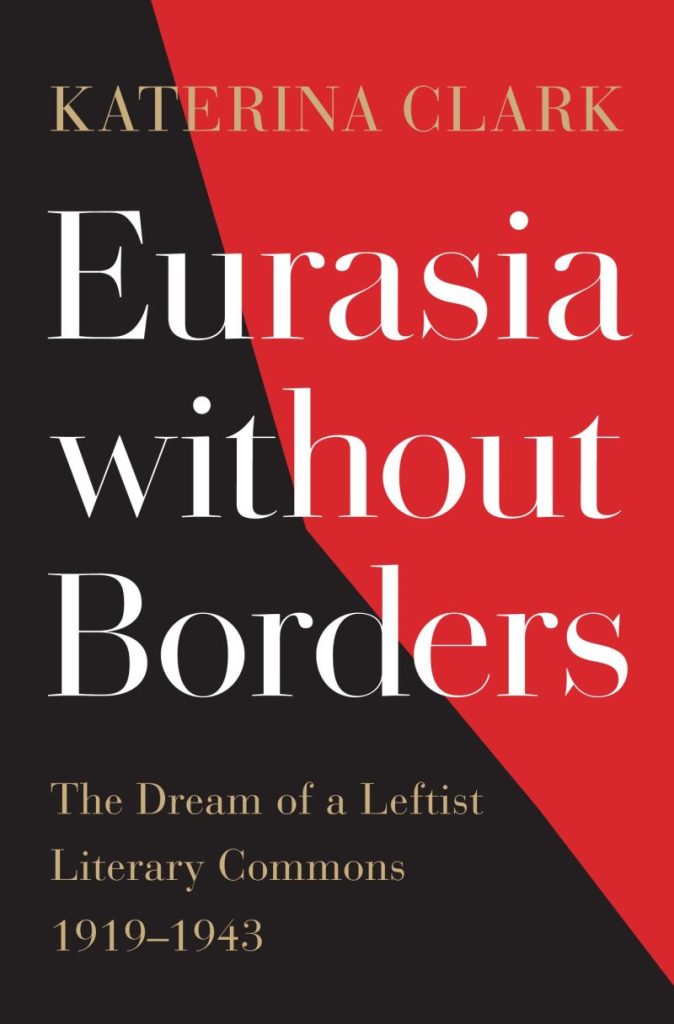 При этом Кларк в первую очередь интересовали контакты советских культурных эмиссаров с западным миром, но уже в следующей книге, «Евразия без границ» (2021), она обратила свой взгляд на восток. Отталкиваясь все от той же концепции, она анализировала циркуляцию текстов и идей внутри Евразии в 1920–1940-е годы.
При этом Кларк в первую очередь интересовали контакты советских культурных эмиссаров с западным миром, но уже в следующей книге, «Евразия без границ» (2021), она обратила свой взгляд на восток. Отталкиваясь все от той же концепции, она анализировала циркуляцию текстов и идей внутри Евразии в 1920–1940-е годы.