Следы детективного жанра в шорт-листе «Большой книги»
В длинном списке «Большой книги» было около десятка произведений с элементами детектива, те, где был совсем уже чистый жанр, совет экспертов отсеял, большая часть остальных перекочевала в короткий. О трех из них — «Волшебном хоре» Евгения Кремчукова, «Выше ноги от земли» Михаила Турбина и «Комитете охраны мостов» Дмитрия Захарова — рассказывает Михаил Пророков.
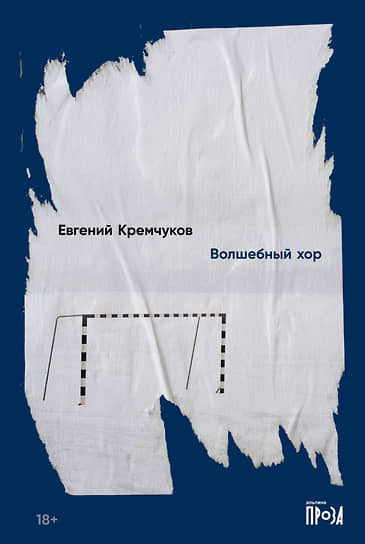
В «Волшебном хоре» Евгения Кремчукова, впрочем, загадка поначалу загадкой не кажется. Чиновник городской администрации Дмитрий Баврин более чем уверен в невиновности своего друга детства и юности Михаила Протасова, обвиняемого в оправдании нацизма. Нет, конечно, Протасов, отличавшийся всегда нестандартным мышлением, мог, наверное, на уроке в школе сказать что-то, шокировавшее детей,— но не нацизм же оправдывать. И уж тем более в такой степени, чтобы за это надо было не штрафовать, а заводить уголовное дело и держать заслуженного педагога в СИЗО. Однако по мере того, как попытки добраться до сути случившегося не приносят результата, убежденность Баврина гаснет, а уж когда к обвинению в неблагонадежности добавляется подозрение в домогательствах к ученицам, он вообще начинает склоняться к «бывает всякое».
К сожалению, увлеченность читателя происходящим гаснет примерно с той же скоростью. Там, где вроде бы должны появляться свидетельства и улики, сплошь идут описания людей и пейзажей, воспоминания детства и юности, размышления о ходе истории, силах, движущих народами, законах справедливости и природе вины («Ребят, ну почему, зачем мы всю дорогу начинаем с виноватых?!. Другой, другой вопрос потому что должен возникать в самом начале, чтобы другой триггер первым срабатывал — не "кто виноват?", а "что делать?"...») В этих дескрипциях, реминисценциях и сентенциях вопрос о протасовской вине или невиновности размывается, тает, так что, когда сын-подросток Баврина, усомнившись, что отец по-прежнему верит в правоту друга, задает ему об этом прямой вопрос, в ответ следуют рассуждения о том, что слово — частичка сознания, а сознание — участок мира, чужая душа — потемки и все относительно. Однако при всем обилии размышлений о происходящем и происходившем десятки и сотни лет назад (оба героя — историки) вопрос о том, так ли ужасно сомневаться в некоторых аспектах решений Нюрнбергского процесса или класть руки на плечи десятиклассницам, не только остается без ответа, но даже не возникает. В итоге герой предстает не жертвой режима, времени, общественного лицемерия или собственной безнравственности, а чем-то вроде неудачно составившегося силлогизма, а несчастливая судьба его — следствием природы вещей.

Не из-за того, что в книге много больных детей — все-таки герой анестезиолог-реаниматолог в детской больнице. И не из-за того, что у Ильи Руднева (так зовут героя) самого погиб сын, а приняв на лечение раненого трехлетнего малыша, он проникся к нему отцовскими чувствами. Ни сыну Ване, ни мальчику — у него сначала нет ни имени, ни фамилии, ни родителей, позднее выясняется, что его зовут Костя,— много места в романе не достается. Куда больше Руднев общается не с Костей, а с теми, кто может помочь найти какие-то следы его происхождения. История, раскопанная врачом, не обходится без мистики и элементов small town horror, но и это можно пережить: жанр такой. Он, кстати — детектив с элементами ужастика — хорош тем, что герой имеет право тянуть резину две трети текста — ударная концовка все спишет. У Турбина речь скорее о восьми девятых, но и это бы ничего. Главное, что линия «потерял своего ребенка — ощутил мистическую связь с чужим — смог с помощью этой сверхъестественной связи разрешить неразрешимую загадку, с ним связанную,— обрел утешение и силы для новой жизни» выдержана от начала до конца, система персонажей стройна и, в отличие от «Волшебного хора», экономна, язык прост и изящен.
Хуже другое: герой со всеми его терзаниями не вызывает сочувствия. И, видимо, ощущая это, Турбин снова и снова эти терзания описывает — но фокусируются они не на фигуре погибшего мальчика, а на фигуре погибшей вместе с ним психически нестабильной жены Руднева (по мнению следствия, не только своя, но и его смерть — ее рук дело, Руднев в это не верит). Вспоминая все ее взбрыки, уходы, истерики, герой все же не находит ее вины в случившемся. Возможно, останься она жива, вердикт был бы иным — но собственная гибель оправдывает ее в его глазах полностью. Для отрицания и торга время прошло, гневаться на покойницу Руднев неспособен, принять случившееся тоже не может — ему остается только депрессия, с которой читателю и предстоит сосуществовать все триста с лишним страниц текста. Вопрос, о ком он на самом деле переживал — о жене или о сыне, оказывается закрыт в эпилоге, когда тайна исчезновения Костиных родственников рудневскими усилиями раскрывается и судьба мальчика оказывается целиком в руках героя (роль опеки и прочей ювеналки автор аккуратно обходит). Руднев, вместо того чтобы самому выступить усыновителем, отдает ребенка соседу-священнику (у которого своих восемь), а сам перебирается из безымянного облцентра в Петербург. Там, наверное, ему удастся начать новую жизнь — или нет.

Вполне мог стать детективом «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова, но ему помешали три момента. Во-первых, отсутствие подозреваемых — герои никого ни в чем не подозревают, все точно знают, что виноваты власти (студенты, старые пердуны, миллениалы, фольклорные чудища, любящие холод и не любящие ничего живого и прогрессивного). Исходного преступления в романе тоже нет — взятые за готовящийся подрыв моста подростки и юноши ничего, естественно, взрывать не собирались, но и никто ничего никогда не взрывал, даже для сокрытия того обстоятельства, что казенные деньги освоены, а в супермегагалапроект «Полярный мост» даже парочка свай не вбита. Ну и в-третьих, при отсутствии подозреваемых и преступления в романе отсутствуют и невиновные. Кроме прекрасных героев, невинных подростков и их родителей (которые, правда, прибегают к помощи черной магии, пыток и доходят, кажется, до расчлененки, но их же можно понять), все остальные персонажи носят на себе печать такого вырождения и деградации, что, даже если кто-то из них (что вряд ли) ни в чем и не виноват, все равно считаться человеком не может, а значит, какая невиновность — просто незрелость (как у Вознесенского: сквозь лысину просвечивают три мысли — «две черные и одна светлая — недозрелая»).
В общем, с расследованиями какая-то беда: то виноватых не обнаруживается, то невиновных днем с огнем не найдешь. Лишний раз убеждаешься в том, что без профессионалов в любом деле обойтись не так просто: хотите раскрыть преступление — зовите сыщика.
