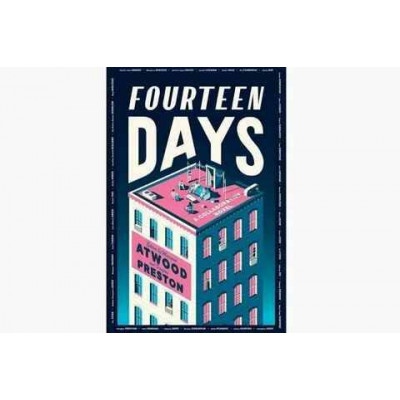Первый русский перевод одной забавной новеллы французской писательницы
Каково расхожее представление о романтизме? Рассказ о терзаниях непонятой одинокой души, страсти в клочья, живописные картины.
Каково расхожее представление о сочинениях Жорж Санд? Защита женских прав, проповедь социалистических и республиканских идей.
Каково расхожее представление о Жорж Санд и Альфреде де Мюссе? У них был страстный, но недолгий роман, который окончился разрывом, но принес богатые литературные плоды: он отразился сначала в романе Мюссе «Исповедь сына века» (1836), а через два десятилетия, уже после его смерти, в целой грозди сочинений, вышедших в одном и том же 1859 году: Санд написала роман «Она и он», Поль де Мюссе, брат Альфреда, возразил ей романом «Он и она», а любовница Мюссе Луиза Коле ответила обоим романом «Он».
 Портрет Жорж Санд, ок. 1835
Портрет Жорж Санд, ок. 1835Все эти расхожие представления верны, но лишь отчасти. Уточнить их позволяет короткая новелла Санд «Гарнье», впервые опубликованная в коллективном сборнике «Розовая книга, рассказы и разговоры молодых женщин» в феврале 1834 года.
Терзания и страсти здесь тоже есть, но описаны они ироническим пером. Нелепый герой новеллы, приземистый и толстощекий байронист Гарнье, влюблен беззаветно и безответно в даму в оранжевом платье, которую не может узнать, когда она появляется на прогулке в другом наряде; он вступает в «дискуссии» со своим конем, а нелепыми выходками в гостях у возлюбленной доводит ее до беды — но против ожидания все кончается хорошо. Сюжет на грани абсурда.
Это другая Санд, веселая, смешливая, описывающая возлюбленную героя так: «рот до ушей и лоб до затылка», издевающаяся над романтическими штампами, прежде всего над всеобщим стремлением подражать Байрону, хотя Шатобриан в 1833 году совершенно всерьез предрекал ей самой, что она станет «лордом Байроном Франции».
И это другой романтизм (он тоже существовал, и не только в Германии Гофмана и Тика) — иронический, чуждающийся пафоса и выспренности.
Исследователи творчества Жорж Санд справедливо предполагают, что этот иронический тон — плод романа писательницы с Альфредом де Мюссе, который начался как раз летом 1833 года и полгода, до отъезда любовников в Венецию, протекал безоблачно и счастливо. Жорж Любен, издатель многотомной переписки Санд, считал, что она сочинила «Гарнье» именно в это время и что Мюссе «диктовал ей текст через плечо». Неслучайно в четвертом «Письме Дюпюи и Котоне» Мюссе «по-хозяйски» подхватывает новеллу Санд и без всяких ссылок вводит в свой текст студента Гарнье, который «мерзнет без дров и завтракает репой», но в мечтах блуждает по Венеции XVIII века, имея о ней, впрочем, крайне приблизительное представление.
В творчестве Мюссе таких случаев иронического «снижения» романтических мечтаний немало.
У Санд их меньше. «Гарнье» напоминает о том, что автор «Консуэло» могла сочинять и такие веселые безделушки про французского романтического Епиходова.
По авторитетному свидетельству Ольги Бодовны Кафановой, знатока рецепции Жорж Санд в России, до сих пор «Гарнье» на русский язык не переводился.
Перевод сделан по второму изданию в книге: Sand G. La Coupe. Paris: Calmann Lévy, 1876.
Перевод выполнили участники мастерской «Художественный перевод с французского языка» (Литературные мастерские Creative Writing School) под руководством Веры Мильчиной, ведущего научного сотрудника ИВГИ РГГУ и ШАГИ РАНХиГС: Кирилл Батыгин, Ольга Голубева, Тася Егорова, Наталья Коваленко-Евдошенко, Ольга Колесникова, Ольга Коркина, София Корсакова, Наталья Краснова, Анна Ланг, Варвара Латышева, Маргарита Литвиненко, Екатерина Лобкова, Евгения Молькова, Светлана Попова-Мариани, Анна Серегина, Аркадий Тесленко.
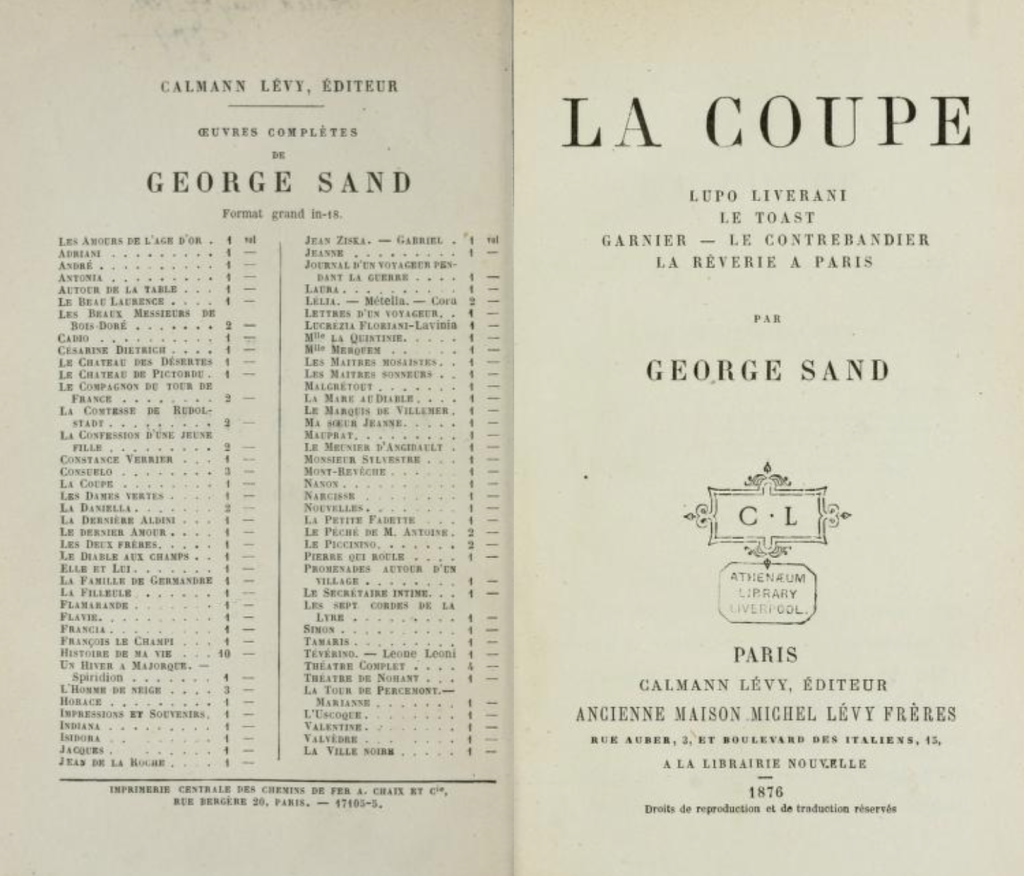
* * *
Жорж Санд
Гарнье
В истории народов и в летописях империй не найдется столько пищи для наблюдений философических и психологических, сколько в рассказе о том, как мой друг Гарнье стал любовником своей возлюбленной.
Мой друг Гарнье, человек порядочный, кроткий и благонравный, разделяет умеренные политические взгляды, поддерживает новые идеи и чтит правила хорошего тона. Этот молодой человек настолько скромен, что никогда не говорит вслух о своих долгах; он не хвастун и не задира и ни за что не поднял бы руку на слугу, если бы тот у него был; однако и ему не чужда справедливая гордость, особенно когда у него отрастает борода. Исключительная чистоплотность и приятные манеры всегда извиняли в глазах немногочисленных приятелей его явную симпатию к «сатанинской школе»*. Не думаю, впрочем, чтобы он всерьез считал себя лордом Байроном, но это дело столь несложное и столь широко распространенное, что я не знаю, с какой стати ему было бы скромничать и лишать себя подобного удовольствия.
В наши дни очень легко быть лордом Байроном. Более того, очень трудно им не быть. Заметьте, я говорю не о литераторах; им воздержаться от этого решительно невозможно. И это неудивительно: ведь если книга издана, о ней непременно пишут в газетах, а газеты ни за что не обходятся без упоминания лорда Байрона. Имя Байрона звучит в каждой статье, напечатанной после 1826 года*. Но взглянем только на частную жизнь, и мы обнаружим, что этот незаменимый участник литературных котерий с каждым днем все чаще встречается во всех кругах общества. Конечно, в Англии при зарождении дендизма от его адептов требовалось умение весьма заметно хромать; однако наше время гораздо терпимее: достаточно просто признать за собой предрасположенность к хромоте, а если она будет выражена недостаточно ярко, то хорошо обученный камердинер должен, подавая вам перчатки и трость, с уважением добавить: «Благоволите не забыть, сударь, что вы подражаете Байрону».
Гарнье, сообразно своим способностям, добавил в эту картину небольшие поправки. Безмятежность его занятий и отдаленность его квартала не позволяли ему презирать людей. К тому же, как я уже упомянул, долгов у него было мало, стихов он не сочинял и терпеть не мог ни медведей*, ни цесарок*. Другое важное обстоятельство состояло в том, что у него не было ни любовницы, ни гастрита, а фрак был один-единственный. Словом, на благородного лорда он был похож только руками и ногами, а точнее одной ногой, поскольку Гарнье, человек заурядного телосложения, крепко стоял на обеих своих широких ступнях.
Как бы то ни было, судьба уготовила этой доброй и нежной душе один из самых сокрушительных ударов. Два незначительных происшествия привели к роковому повороту в его жизни. Те, кто прочтет этот рассказ, увидят, что Гарнье был рожден для подтверждения двух взаимоисключающих пословиц, и это их вовсе не удивит, ведь на каждую пословицу найдется ее прямая противоположность, и, если обратиться к народной мудрости, она всегда отыщет возможность ответить и да и нет одновременно, вот например: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского», «Терпение и труд все перетрут». И в этом отношении народная мудрость намного превосходит древних оракулов, которые никогда не отвечали ни да ни нет.
* * *
В один морозный зимний день Гарнье, тоскливо прислонившись к остывшей печи, размышлял о вещах нашего бренного мира. Он смотрел на свой запас дров, книги, столик у кровати, свечу и зеленый фрак и, качая головой, думал, что счастья все это не приносит.
Запас дров, надо признать, был скуден, книги почернели от копоти, свеча почти догорела, а зеленый фрак вызывал глубокое сочувствие. Если бы вы только видели, как он, весь в убогих складках, по-простому висит на поломанном стуле — это он-то, парадный фрак, воскресное знамя! Обшлага произвели бы на вас самое удручающее действие, а на воротник вы не взглянули бы без слез.
Не то чтобы Гарнье был мелочен: он никогда ничем не обольщался и не относился к портному с бо́льшим почтением, чем тот заслуживал. Но если правда, что плохие дни выпадают каждому, разве не правда и то, что бедность их вовсе не скрашивает? Говорят, меланхолия, что проскальзывает во дворец из-за плохо переваренной дыни или очередного нового романа, не менее ощутима, чем та, что поселяется под крышей бедняка из-за счета от прачки или недостающей пуговицы единственного фрака. Говорить так несправедливо и немилосердно. Для богачей грусть всего лишь сестра скуки; иногда она заходит в полуоткрытые двери балконов и пересекает длинные галереи тонкой осенней паутинкой; всего на мгновение она замирает на резных потолках и в углах готических рам. Потом ее прогоняет собачий лай или чашка душистого чая, и она исчезает без следа. А вот мансарды тоска затягивает своей паутиной во всю ширь, от дверей до окон. Сквозь эту плотную сеть с трудом пробиваются слабые лучи солнечного света; жучок пляшет там посреди каскада пыли, а чудовищная тварь цепляется мохнатыми лапами за сплетенные ею нити и раскачивается туда-сюда.
Гарнье отворил окно. Увы и ах! Какой прекрасный морозный день! Как будто морозные дни могут быть прекрасными, когда у вас на счету каждое полено. Солнце сияло на безоблачном небе, земля была суха и чиста, как оловянная тарелка. По дороге взад-вперед разъезжали экипажи. А ведь Гарнье тоже любил жизнь! А ведь он тоже регулярно посещал кабинет для чтения*. А ведь он тоже был полон желаний, и в нем бродили соки, точь-в-точь как в новейшей драме*!
А ведь и ему, как любому другому, являлись в грезах легионы хрупких дев, полчища ангельских созданий и неистовых андалусок*. И он тоже глубоко постиг средневековье*. И он тоже был человеком своего времени, выражением своей эпохи, совсем как новомодное предисловие! И он тоже накануне побывал у Итальянцев* и увидел там ангела света в оранжевом платье.
От этого Гарнье потерял покой. О, если бы в этот тревожный час он мог нанять экипаж, то поскакал бы в Булонский лес и разыскал там среди пестрой блестящей тысячеголовой толпы оранжевое платье своей прелестницы. О, если бы у него был испанский скакун с рыжеватой гривой, длинной и шелковистой, со звонко цокающими копытами, с налитыми кровью глазами! Или русские сани с серебряными бубенчиками, запряженные резвыми мулами в пурпурных плюмажах! Или венецианская гондола с ярким фонарем на носу, изогнутом, точно лебединая шея, и с двумя голубоватыми веслами, взмывающими вверх, как два трепещущих крыла*! О, если бы у него был верблюд из Египта, олень из Лапландии, слон из Сиама! О, да если бы у него была хотя бы сотня экю!
Проклятие! Каждый день тот же обед, та же печь, тот же зеленый фрак! Разве жизнь так сладка? Разве самоубийство не одна из потребностей нашего века, не одно из следствий нашей литературы?
Гарнье покосился на пистолет, висевший у него на стене, бедный пистолет без кремня, не способный никому причинить вред.
— Мрачный и верный друг! — воскликнул юноша. — Что скрывает твое железное чрево? Какой таинственный секрет, внушающий сомнение и ужас, откроешь ты на ухо человеку, достаточно смелому, чтобы приставить тебя к своему впалому виску? Какая ужасная правда сверкнет из твоего закоптелого дула?
— Увы! — казалось, скромно и беззлобно ответил бедный пистолет. — У меня больше нет курка, а у тебя нет пороха. Ужасный выстрел, даже если бы он прогремел, возвестил бы мгновение не твоей, а моей собственной смерти; осколки, которые угодили бы тебе в нос и в глаза, были бы единственными следами, которые я мог бы оставить тебе на память о моей долгой и безжалостной службе.
Разве не отвратительно зависеть от какой-то даты?* Особенно как подумаешь, что первого числа каждого месяца Гарнье порхал по заливным лугам подобно трясогузке! Розетки его легких башмаков были влажными от росы, а на глаза наворачивались слезы. «А с кем он гулял под руку? — Какая разница! — Ну да, это была белошвейка».
Гарнье взял скрипку и принялся разминать руки; он сыграл Di tanti palpiti*. Шарманщик, проходивший по улице, ответил ему хором горцев из «Белой дамы»*; у окна уселась гризетка*; снизу, из винного погреба, донесся звук охотничьего рога, а вослед ему самым жалобным образом завыла собачонка. Чувство гармонии наполнило душу Гарнье, и ее уже был готов облегчить подступивший поток слез, как раздался звонок.
На пороге появился лакей в ливрее. Гарнье его узнал: то был слуга молодого ***, его друга детства и школьного товарища. Нередко экипаж этого повесы с шумом останавливался у ворот дома, где жил скромный студент; нередко Гарнье, словно ласточка во время дождя, пробирался вдоль стен лавок к великолепному особняку отца *** и легко приподнимал кончиками пальцев в перчатках цвета свежего масла* блестящий от лака дверной молоток; его забрызганные грязью шелковые чулки утопали в мягкой и отдохновительной шерсти ковров. Нередко охмелевший Гарнье проводил в особняке *** немало приятных часов под звон бокалов и тарелок; порой за десертом, положив локти на стол, он мог ввернуть забавный анекдот, и его острота, не без толики сатанизма, разглаживала морщины на лицах благородного семейства. Никогда еще сухощавое и ошеломленное лицо лакея, который только что позвонил в дверь, не представало перед Гарнье более своевременно; студент тотчас распечатал письмо. Оно гласило:
«Любезный друг!
Выезжая в ..., где проведу три недели, должен тебе сказать, что ...
Подпись: ***
P.S. Сделай одолжение, пришли мне две дюжины карандашей и бери моих лошадей так часто, как тебе заблагорассудится; считай, что они твои и что ты очень меня обяжешь.
Прощай, Гарнье, до свидания».
Что, по-вашему, сделал Гарнье? Обрадовался? Бросился к зеленому фраку? Нет, он не улыбнулся; он бросился к зеленому фраку, это правда, этого я не отрицаю, но притом нахмурил брови; руки его машинально погрузились в карманы, будто стремясь измерить их глубину. Подбородок его утонул в галстуке, ключ — в кармашке для часов, и в тот миг, когда он, приказав Франсуа идти следом, распахнул дверь, с его полуоткрытых губ сорвалась самая шальная ариетта.
Прошу вас заметить, что я вовсе не шучу и что эта история вовсе не сказка. Гарнье живет на улице Пуаре; его семья родом из Лонса-ле-Сонье*.
Лишь только Гарнье добрался до дома ***, как оседлал коня. Лишь только он оседлал коня, как поскакал в Булонский лес; лишь только он прискакал в лес, как принялся разыскивать повсюду красавицу, которую увидел в опере.
Вскоре она очень медленно проехала мимо него в открытом экипаже. Он несколько раз взглянул на нее, однако не узнал: она забыла надеть оранжевое платье и выехала в голубой дульетке*. Что касается нее, она тем более его не узнала, хотя он по-прежнему был в зеленом фраке, поскольку накануне она не обратила на него никакого внимания.
С трех до пяти часов Гарнье выбивался из сил в поисках оранжевого платья. Затем полил дождь; экипажи столпились перед воротами Майо*; вуали опустились, крыши колясок поднялись, английские всадники раскрыли зонты, а французские принялись со свистом разгонять хлыстами тяжелый сырой ветер, от которого линяли их завитые усы. В то самое мгновение, когда потерявшийся в этой толпе Гарнье пришпорил коня, чтобы ехать в сторону улицы Пуаре, перед ним, как молния, промелькнуло платье изумительного оранжевого цвета. Гарнье резко остановил коня, точнее хотел остановить, но конь не соглашался, и между ними завязалась небольшая дискуссия. Привыкший к твердой руке, конь приводил столь убедительные резоны в пользу продолжения пути, что Гарнье едва не внял им и не свалился на землю. Настаивать на своем он не стал и, натянув поводья, стрелой пустился вслед за оранжевым платьем. Очень скоро он поравнялся с экипажем дамы и от ворот Майо до улицы Риволи только и делал, что бросал пронзительные взгляды да испускал еле слышные вздохи.
Гарнье был ч