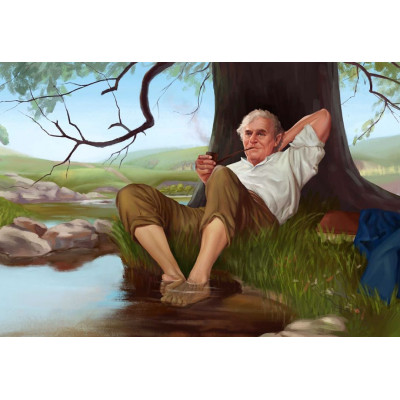О Толкине, дуализме и неприятии любви
Принято считать, что мир «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина затягивает, потому что он такой же реальный, как наш: тут и языки, и мифология, и география. Я думаю, наоборот: он проще реального, потому что в нем нет любви. Есть добро и зло, красота и смех, есть саспенс — но нет любви и ее травмы.
Здесь царит бинарная логика: персонажи и страны делятся на добрых и злых, на прекрасных и отвратительных, даже языки — на красивые и уродливые. Нет сложностей отношений — ни в политике (единственный политик тут Саруман), ни между мужчиной и женщиной. Отношения Арвен и Арагорна, Сэма и его жены формальны. В некоторой степени исключением является Эовин (и то индивидуальность ее проявляется в том, что она переодевается мужчиной и бросается воевать). Но ее любовь с Фарамиром — «чисто для галочки». Они не перемолвились ни словом. У женщин, как пишет Толкин сыну Майклу, вообще нет «языка», чтобы говорить о любви. Романтическая модель, по его мнению, «насаждает раздутое представление о любви как об огне, дарованном извне», причем «сами женщины этому почти что и не причастны, хотя могут пользоваться (sic!) языком романтической любви, раз уж он настолько прочно вошел во все наши идиомы».
В «Хоббите» единственный женский характер — вредная Лобелия, в «Листе кисти Ниггля» — жена мистера Пэриша, глупая, неблагодарная, требовательная. И если в раздражении на ее мужа Ниггль раскаивается после смерти, то о его жене он не вспоминает, как и сам Пэриш. Она не является Другим, поэтому по ней нельзя заскучать, по отношению к ней не может быть раскаяния. У нее даже нет имени, даже Пэриш называет ее просто «жена» — и это при том, что Толкин придавал имени огромное значение, и в конце рассказа Ниггль и Пэриш попадают в местность, которая носит их имя.
Толкин не может помыслить равные отношения с Другим — ни по происхождению, ни по полу. Дружба, привязанность во «Властелине колец» свойственны только мужчинам, из которых зачастую один — «господин», другой — подчиненный. Так, убедительно показаны привязанность Фродо к Бильбо и Гэндальфу, преданность Сэма по отношению к Фродо, веселая дружба Гимли и Леголаса.
«В нашем падшем мире, — пишет Толкин в сыну Майклу, — „дружба“, что должна бы связывать всех представителей рода человеческого, между мужчиной и женщиной фактически невозможна». В другом письме рассказывает о нецерковном бракосочетании: «регистратором в их случае оказалась женщина — на мой взгляд, это еще больше усугубило непристойность происходящего».
И все же нельзя сказать, что картину мира Толкина определяет мизогиния. Он отторгает не сколько женщин, сколько равные отношения с Другим. Другого (этически, психологически, эстетически) нет, а если есть, то он враг и урод. Еще точнее — Толкин не вмещает равенство как Троицу: любовь мужчины и женщины, которая потенциально предполагает ребенка, в которой есть место для Третьего (ребенка / Бога / друга / утешительного Святого Духа). Чтобы принять, что Другой — равный, надо допустить, что он может любить кого-то/что-то иначе, чем ты. Если же любить «в двоице», исключая Третьего, то любимый становится не равным Другим, но объективируется, становится «собственностью», проекцией потребностей собственного эго. Любовь в Троице — это динамичные межличностные отношения с равным (и признание за любимым права любить Третьего), любовь в Двоице — это власть.
 Иллюстрация Михаила Беломлинского к советскому изданию «Хоббита», 1976
Иллюстрация Михаила Беломлинского к советскому изданию «Хоббита», 1976Герои Властелина колец подчиняются власти — или кольца, или начальника. Заметим, что само название «Властелин колец» выводит на первый план не героя, но черного властелина — которого мы ни разу не видим, он просто воплощает обезличенность и власть. Единственный персонаж книги, который неподвластен Кольцу, — это Том Бомбадил. Не случайно только он у Толкина счастлив со своей женой! Но примечательно, что, как следует из первой песни «Приключений Тома Бомбадила», лесной житель взял в жены Золотинку «насилием», похитил ее. Т. е. у них, опять-таки, не было отношений. И характерно, что у них нет детей и что Том не желает спасать мир, выходить за пределы своего блаженного края. Двоица эскапична — это уход от мира в отдельное идеальное измерение.
Такое же неприятие реальности (материи) отличает и философию Платона: она дуалистична, Платон противопоставляет мир идей и мир материи, смертное тело и бессмертную душу (так же как Толкин противопоставляет силы Тьмы и Света, красивые и уродливые расы).
И толкиновский дуализм, и дуализм платоновский можно объяснить при помощи идей психоаналитика Мелани Кляйн. Она считала дуалистичное, черно-белое видение мира универсальной защитной реакцией нашей психики на психотравму вследствие мучительных отношений: эта оптика упрощает мир, делит людей на «своих» («на стороне добра») и «чужих» («плохих»). Она отменяет отношения: любая болезненная ситуация в любви упрощается до «все мужики козлы» («все бабы дуры»), в политике — до «мы на стороне добра, а они на стороне зла».
Для Платона смыслообразующей травмой стала казнь Сократа. Платон не вмещает эту трагедию — и впадает в дуализм, изобретая справедливое государство в иной реальности, где Платона не могли бы казнить, а вся власть принадлежит философам. Не вмещает смерть Сократа — и создает концепцию бессмертия души. Точно так же у Толкина власть должна принадлежать потомкам эльфов — творческой и бессмертной расы.
Платон боится не только непредсказуемости социальных отношений, но и непредсказуемости отношений с искусством. Поэтому в его «Государстве» действует цензура: для стражей нужно создавать особые мифы, которые бы их не пугали и не соблазняли, каждое сословие должно читать только то, что укрепляет его функции. Толкин создал мифы, которые Платон бы наверняка одобрил. Герои писателя являют собой образец «правильных» мужских добродетелей. Всякая любовь во «Властелине колец» заканчивается браком, все браки строго сословные, социально и расово равные — Арвен с Арагорном, Эовин с Фарамиром, Сэм с Розой.
Помимо дуализма, Толкина и Платона сближает тот факт, что они были людьми вдохновения (см. знаменитое описание вдохновения в платоновском «Федре» или строки о «Даре», жгущем художника, в «Листе кисти Ниггля» Толкина). Британец писал не по плану, он был движим вдохновением. Так, писатель признавался в письме, что не знает, чем закончится встреча с Черными Всадниками, что события развиваются непредсказуемо, что у него получается не детская сказка, а книга про зло.
 Иллюстрация Михаила Беломлинского к советскому изданию «Хоббита», 1976
Иллюстрация Михаила Беломлинского к советскому изданию «Хоббита», 1976Вдохновение мобилизовало двоичную логику, которая сама по себе очень распространена в мире, представляя собой результат катастрофы межличностных отношений. «Все бабы дуры», «все мужики абьюзеры», «все, кто не „свои“, — враги/уроды/чужие» — эти схемы могут провоцировать агрессию и изоляцию, но они статичны и немы, повторяют сами себя, как заезженная пластинка. Однако Толкин, благодаря своему таланту, выразил на языке мифа крайне востребованную матрицу, дав ей кровь и плоть. Схожим образом Платон создал философию, изменившую мир и христианскую традицию, сделав ее дуалистичной, отторгающей реальность («мир во зле лежит»), уведя ее в «монастырь» — подобно тому, как как толкинистское реконструкторское движение уводит из мира.
На примере Толкина и Платона видно, что когда двоичная структура приходит в движение благодаря мифопоэтическому таланту — то она захватывает не только аудиторию, но и автора. Дуальность «прогрессирует» по мере творческого воплощения.
Ранний Платон — это еще не автор тоталитарного проекта «Государства» и «Законов» («в сфере политики личность для Платона — сама сатана», писал Карл Поппер о позднем Платоне). Его ранние диалоги полны памятью о Сократе, это еще «диалоги», а не монологи и не законодательные проекты, как в позднем периоде. Но чем дальше, тем больше навязывается дуальная модель и стирается Другой, стирается «харáктерность» героев. В более поздних «Пармениде», «Софисте», «Политике» и в «Тимее» Сократ играет второстепенную роль. В последнем произведении, «Законах», его заменяет фигура чужеземца.
Так и ранний Толкин — еще не автор «Властелина колец». Его первое произведение — «Сильмариллион» — началось с истории любви Берена и Лутиэн. Причем женщина-эльф в этой истории — полноценный Другой, она выбирает остаться с Береном ценой отказа от своего бессмертия, от законов своей расы. Это история о нарушении границ между эльфами и людьми, и в ней женщина равна мужчине в своей агентности и субъектности. Но постепенно фокус с любви (которая не борется со Злом, но преображает Зло в себе и в любимом в процессе отношений) сместился на борьбу с Чужим (Злом).
Дуализм усиливается и по мере написания «Властелина колец».
Начиная со второго тома, дуализм задает композицию: одна часть посвящена Мордору, другая — «стороне света». Сражений становится все больше, а отношений — все меньше. Герои развоплощаются и обезличиваются. В начале книги все хоббиты дружат, есть тепло объективной реальности («Неожиданно Фродо рассмеялся: он учуял из плотно закрытой корзины сытный запах жареных грибов»). Этот обаятельный реализм продолжается до первой встречи с Всадниками, после трактира «Гарцующий пони». И в этот момент у Толкина, судя по письмам, случился кризис. Он обнаруживает, что книга как будто пишется сама, и получается вовсе не сказка про детей.
 Иллюстрация Михаила Беломлинского к советскому изданию «Хоббита», 1976
Иллюстрация Михаила Беломлинского к советскому изданию «Хоббита», 1976В лице Всадников Фродо впервые столкнулся с Другим, который в двоичной картине мире всегда видится как «урод» и «зло». По-настоящему соприкоснуться с ним невозможно, как невозможно перейти его границы (в отличие от традиционных сказок про любовь, про Красавицу и Чудовище — где Иван-царевич женится на принцессе, урод становится красавцем, где можно «полюбить любого»). Надев кольцо, Фродо лишь видит Всадников, — и от этого контакта что-то в нем отмирает. Окончательно он теряет свое «я» после того, как приходит в себя в чертогах Элронда. Толкин не может помыслить встречи «низших» с «высшими» (эльфами) — и от того личность Фродо стирается. Он становится покорным исполнителем, утрачивает свою лирическую задумчивость и способность смеяться, больше не вспоминает о Бильбо и не дружит с Мерри и Пином. Он соглашается быть хранителем Кольца — но в этом нет его выбора, его воли. И в дальнейшем обезличивается, становится грустным призраком.
Хранители уже больше не дурачатся и не дружат, как в первой части, — они разделяются на двоицы: Пиппин с Мерри, Фродо с Гэндальфом (позже — Фродом с Сэмом), Гимли с Леголасом. Причем эти двоицы определяются «расой», происхождением — хоббит с хоббитом, гном с эльфом). Хоббиты разделяются на пары и эмоционально, и пространственно: Фродо оказывается с Сэмом в Мордоре, а Пиппин и Мэрри — у энтов. Что характерно, Пиппин и Мерри не вспоминают про Фродо (при том что изначально они решились покинуть Хоббитанию, вопреки хоббитскому домоседству, исключительно чтобы не разлучаться с Фродо): в двоице нет места третьему.
Схожим образом Арагорн, который был сначала таинственным Бродяжником, потом — надежным товарищем, к концу книги становится абстрактным «Государем». Он теряет и свой характер, и имя: отныне его именуют Государь Элессар — еще одно проявление безличности, к которой приводит двоица по мере воплощения.
То же происходит с Гэндальфом. Гэндальф Серый в первом томе — домашний, добрый, его обожают хоббитята, которым он устраивает фейерверки. Маг любит Фродо, он самый теплый из Хранителей, строгий, но умеет шутить, это «фигура отца». Он ошибается, решив идти через Морию, признает свою ошибку, бросается защитить Хранителей и погибает в схватке с Барлогом, проявляя максимум человечности. В конце книги писатель воскрешает Гэндальфа, правда в форме «сверхчеловека», который не ошибается и никого не жалеет; другим положительным героям автор и вовсе отказывает в гибели, несмотря на масштабные битвы. Умирают только Боромир и Дэнетор — и то «заслуженно». Логика дуализма приводит к созданию идеального мира — где нет смерти, нет несправедливости, власть отдана самым достойным.
Единственный из героев «Властелина колец», кто сохраняет свою любовь, — это Сэм. Но залогом сохранности личности становится его «рабское самосознание». Он уже перестал быть слугой Фродо, тот ему не приказывает, но Сэм упорно именует друга «хозяином» — и сохраняет свою преданность, характер, типичные словечки. Вероятно, Сэм остается собой именно потому, что не выходит из исходной пары с Фродо, из устойчивых неравных отношений, где один участник — мудрый и власть имеющий, другой — подчиненный. И поскольку двоица не предусматривает иных участников, Сэм ревнует к Горлуму.
История с Горлумом в Мордоре — когда Фродо пожалел Горлума и взял его с собой, а тот чуть не полюбил его — единственная в книге попытка прорыва к троице. Эту сюжетную линию Толкин сознательно создавал как христианскую. Горлум пытается выйти к спасению, но именно ревность Сэма побуждает его остаться в мире зла.
Поразительно, что Толкин не осуждает хоббита и не жалеет потерянную душу: «Оттягивая решение и не укрепив все еще не до конца извращенную волю <...> в стремлении к добру <...>, он ослабил сам себя в преддверии последнего своего шанса, когда у логова Шелоб зарождающуюся любовь к Фродо слишком легко иссушила Сэмова ревность. После того он погиб».
 Иллюстрация Михаила Беломлинского к советскому изданию «Хоббита», 1976
Иллюстрация Михаила Беломлинского к советскому изданию «Хоббита», 1976Судя по биографическим данным, Толкин и сам, как Сэм, отторгал Третьего, он не знакомил своих близких: с женой он общался отдельно, с друзьями — отдельно. Когда его ближайший друг Клайв Стейплз Льюис начинает дружить с Чарльзом Уильямсом, Толкин начинает отдаляться, а когда Льюис женится — практически прекращает с ним общение.
По всей видимости, писатель скептически относится к любви мужчины и женщины, рождающей Третьего. На телесном уровне женщина — Другая, и Толкин словно не может считать ее равной и любить одновременно как возлюбленную, друга и мать ребенка. Для него «или — или»: или Фродо с Бильбо или с Гэндальфом, сам он любит жену или ребенка. Толкин был католиком и примерным семьянином с четырьмя детьми — но после того, как он привязался к младшему сыну, Кристоферу, он отселился от жены в другую комнату и всю страсть перенес на сына. Он любит сына «в двоице» — видит в нем не Другого, а «копию себя», приписывает ему собственные проблемы и желания, вовлекает в создание своей вселенной. «Его забрали у меня в разгар работы над картами», — жалуется он, когда Кристофера призывают на войну. С Кристофером он в двоице против мира (поскольку всякая двоица — это побег от реальности). «Помни, ты — хоббит среди урукхаев», — пишет он ему на фронт.
Двоица — это реакция на катастрофу троичных, т. е. открытых Третьему, предполагающих живую коммуникацию равных отношений. Опыт таких отношений — или их невозможности — формируется прежде всего в семье. Мать — отец — ребенок — это базовая троица: отец любит мать, но не просто как свою «собственность», партнера, но и как «мать ребенка». Именно допущение отношений с Третьим делает Второго — Другим (а не врагом или собственной проекцией). Другой (и Друг) — тот, кто любит не только тебя, независимо от тебя.
Конечно, в реальности троица почти всегда искажается, Эдипов комплекс — один из вариантов такого искажения. Свободная коммуникация с равным, открытая Третьему, является редко, как Бог, и потому любовь постоянно тяготеет к двоичной форме — власти и объективации. Такая форма — как защита от травмы — особенно часто возникает из-за катастрофы троичных отношений (прежде всего семейных или потенциально семейных).
У Толкина родная семья распалась трагически: отец умер, когда ему было четыре года, в разлуке с семьей. Заморская южная Африка, где они жили вместе в раннем детстве, стала прообразом Валинора — потерянного рая, где светили оба дерева, где вместе жили оба родителя, где была жива троица. Мать умерла, когда он был подростком. Эта трагедия обусловила его дуализм, эскапизм, неприятие Другого — и в этом он совпал со своим временем.
Со второй половины XX века опыт распада фундаментальной троицы (полной семьи) стал практически универсальным. «Ячейкой» современного общества является пара «партнеров», которые периодически сменяются. Желание ребенка (Третьего) и родительство не связаны больше с супружеством. Троица ушла из любви. Именно поэтому современное общество мыслит дуальными категориями. Массовый эмоциональный отклик находят теперь не истории любви и отношений («романы») — а борьба добра со злом, жертвы с насильником. На любовь современный человек почти не отзывается, но вот на «абьюз» и «насилие», «солидарность с жертвами насилия» — еще как. «Добро и зло» стали гораздо реальнее, чем личные отношения, — последние легко разрываются, если твой друг/близкий причислен к «стороне зла». Именно поэтому Толкин оказался столь популярным и востребованным — и на уровне частной жизни, и мировой истории. Последняя воспринимается сквозь дуальную призму, для которой Толкин дал мифологию и язык. «Орки», «Мордор» — эти слова применяются к актуальной истории и меняют мир.