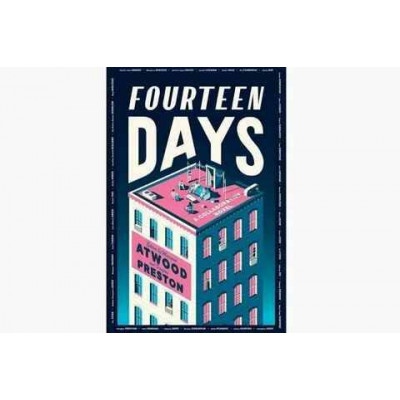О книге Ивана Белецкого «Хоть глазочком заглянуть бы»
В своем отвратительном литературном вкусе я частенько виню главное библиофильское увлечение детства — «Приключения Алисы». Полная серия цветных томиков Булычева от издательства «Культура» сыграла со мной злую шутку. Футурологический оптимизм «Путешествия», антивоенный надрыв «Острова ржавого генерала» — все ранние вещи про девочку с Земли потеряли малейшее очарование, стоило мне дойти до конца пятой книги цикла.
На крайнем излете перестройки Игорю Всеволодовичу Можейко надоело быть детским писателем: Алисины похождения после знакомства с разумным звездолетом Гай-до — это что угодно, только не дидактическая советская фантастика. Бодрый и местами кровавый экшен в антураже маринистско-экологического хоррора и космофазенд (Булычев открыто издевался над всесоюзным увлечением латиноамериканскими мелодрамами) произвел неизгладимое впечатление на мою неокрепшую психику.
Самая смешная и одновременно жуткая вещь того периода у писателя — повесть «Город без памяти». В ней Алиса оказывается на планете, чья цивилизация однажды изобрела вызывающее амнезию поле. Запустивший его ученый намеревался вымарать в своей культуре насилие, но в итоге лишь откатил ее к феодальному строю. Сохранившиеся же на планете артефакты прошлого и семиотические особенности языка эту деградацию вовсе не остановили.
Книга Ивана Белецкого цитирует песню из экранизации другой булычевской работы, «Лилового шара», но, по сути, занимается как раз тем, что в «Городе без памяти» делала неунывающая Селезнева. Пытается вернуть обществу непутевых амнезистов базовые способы обращения к исторической памяти. Еще и в той области, что часто взаимодействует с этой памятью на редкость небрежно.
Мимо подзаголовка «Очерки об утопии и ностальгии в постсоветской поп-музыке» сложно пройти. По крайней мере всякому, кто болеет душой за состояние и тематику популярного звука. Ничто так не мусолилось в отечественном музписьме последние лет пять, как ключевые слова этого подзаголовка — «утопия» и «ностальгия» — как вместе, так и по отдельности.
Эти темы довольно редко получают более-менее приличный и объемный разворот, несмотря на присущие их исследователям либертарную этику и склонность к любительскому академизму. Белецкий просит считать его работу публицистической, но надо сразу заметить: настолько серьезно великие мечтания популярной музыки, созданной на территориях бывшего советского проекта, до сих пор не обсуждали. Даром что речь в «Хоть глазочком заглянуть бы» в основном идет не о теоретических выкладках, определенных идеологиях и политическом пространстве, куда музыка может забраться. А о производимой ею «тональности коллективных ощущений».
Редкое для подобного письма качество — дотошность, с которой Белецкий вводит читателя в настоящее состояние утопической и ностальгической проблематики в общественных науках, плюс постсоветский контекст смежной музыки тем не менее лишена компульсии. Если что и делают так же размеренно и вдохновленно, то разве что чистят оружие. Здесь же нам заодно сообщают, для борьбы с чем это оружие будет применено:
«Прошлой зимой я приезжал на новогодние праздники на свою историческую родину, в Краснодар. Было тепло даже для Юга — почти 20 градусов в конце декабря, и я пошел прогуляться на Затон, небольшой отрезанный участок реки, с одной стороны охваченный парком, а с другой — высотными жилыми домами.
Хотя высоток со времен моего детства стало больше, а река пересохла, картина все равно была узнаваемой, вызывающей отклик: синее бесконечное небо, светлые дома вдалеке, голые деревья, отражения облаков. Пейзаж, не принадлежащий какому-то конкретному времени, но разрывающий мою память между реальными и очень уютными, теплыми, нестерпимо сладостными детскими впечатлениями от этого места и впитанными из культуры представлениями о том, как должен выглядеть идеальный детский пейзаж из советского детства. В голове начала играть музыка — то ли какой-то чиллвейв, то ли группа Space или Жан-Мишель Жарр».
Изгнание фантомных образов, подселенных личным мозговым наночервем поп-культа, производится со всем вниманием к инвазии. Пуще того, Белецкий осматривает и некоторые места общественного скопления таковых в последние тридцать лет. Разбирает корни юношеского задора в срезе питерского психоделического панка. Штудирует совьетвейв — расслабляющую электронику с флером советского технооптимизма, популярную лет десять назад. Анализирует летовский эксперимент по выведению звука советских ВИА из эсхатологии советского авангарда.
Такие погружения в зоны относительно андеграундные соседствуют в «Хоть глазочком...» с музыкой более популистской: так, Белецкий прослеживает историю консервативного уклона части артистов «Нашего радио», бывшего якобы аполитичным, и рассекает собирательный образ девяностых в ротационной поп-музыке тогда и сейчас.
Западный аналог «Хоть глазочком...» хорошо известен. Это вышедшая в 2011 году «Ретромания» Саймона Рейнольдса — монструозная история о том, как поп-музыка со второй половины XX века стала одержима своим же прошлым, и ни к чему интересному или новому (по мнению автора) это не привело. В качестве исследования книга Рейнольдса действительно вышла чудовищной. Ироничная ремарка Полины Аракчеевой в рецензии журнала «Логос» высветила все, чего этой книге недоставало:
«Изложить историю современности — задача сама по себе непростая и амбициозная, но вполне способная привести к концептуально обоснованному результату <...> Самое важное здесь — признавать современность такой же ценностно состоявшейся, как и любую другую эпоху, быть причастным к созданию ее смыслов».
Белецкий же, напротив, вполне отдает должное настоящему и музыке этого времени — особенно если говорит о тех нюансах политических, личных и общих мечтаний, которые эта музыка манкирует или намеренно искажает. Да и его позиция смотрится выгоднее. В отличие от главзануды англоамериканской музпрессы, к инструментам и музыкальному софту он прикасается регулярно.
Первые две главы книги — и добрая ее треть — это одновременно и необходимая мета, и одна из самых интересных частей тома. Белецкий быстро и подробно объясняет, как утопия из жанра нравственной литературы с политическим требованием стала особым мироощущением, а затем вернулась в качестве политического проекта. Способного разочаровать не только противников, но и сторонников, даже до конца не исполнившись.
А ностальгия, бывшая сперва медицинским диагнозом хандры по конкретному месту, рассеялась среди культурных пластов томлением по вообще не обязательно существовавшим явлениям. Уничтоженному будущничеству советского авангарда, что реинкарнировало в советской фантастике, а затем обернулось тоской по так и не случившемуся обществу всеобщего благоденствия, здесь отведено особое место.
Музыкальная сторона этих историй также занимает предостаточно страниц. Не только в плане тематик, которые эксплуатирует современная зарубежная музыка ностальгического/утопического характера. Но и чисто прикладного освоения — почему определенный звук или эффект получил ассоциации с отдельным регистром чувствования и как музыканты используют этот опыт сейчас.
Здесь, кстати, Белецкий с Рейнольдсом открыто полемизирует. Британский критик считал, что личные призраки сочинителя той или иной музыки подселяются к слушателю из-за разделения общей культурной суперпозиции или же благодаря необходимой интродукции. Автор «Хоть глазочком...» доказывает, что для этого достаточно куда меньшего: музыка, мечтающая о будущем, но неизбежно отстающая от самой технологии своего производства, уже оказывает необходимый эффект.
Что до предметных глав, то Белецкому удается сохранить отстраненно-исследовательский тон в разговоре о явлениях, которым он определенно симпатизирует. Часть о совьетвейве, в которой препарируется тяга исполнителей жанра к так и не ставшей вседоступной космической мечте и счастливых восьмидесятых (кои сконструировавшие такое на своих альбомах вряд ли застали), читается намного интересней прослушивания такой музыки.
Рассуждения о «Гражданской обороне» и сопряженных проектах в «Утопии и ностальгии...» — чуть ли не лучшие из всех Letov studies. Как правило, исследования «ГО» — это общие разговоры на тему скрещения оригинальной психоделии 1960-х, находок застойных советских групп и современных «Гражданской обороне» гитарных групп плюс изучение поэтической эволюции Летова. Словом, банальщина.
Но здесь ей дан хороший разворот: как к девяностым Игорю Федоровичу удалось сплавить в музыку ожидавшейся революции страх и отвращение шестидесятых, что вовсе не были сплошным «летом любви», с остальными означенными ингредиентами — продуктами цензуры, самоограничений и далеко не трепетного душевного настроя. Сила летовского слова обрела апокалиптичность не только благодаря отзвукам религиозной исступленности в рабочем футуризме, из которого музыкант иногда заимствовал напрямую, но и из-за остаточных блужданий этой лихости в советской песне более поздних времен.
Несколько труднее читать разделы, в которых автор настроен к объекту исследования не слишком лояльно. Например, главу про постсоветский постпанк. В ней Белецкий размышляет о развитии действительно любопытного наваждения — антиутопического образа постсоветского пространства как территории позднего модернизма, блочной застройки и саунда якобы аутентичных этому полю групп. То есть монотонной безрадостной рок-музыки с обильным применением «холодного» синтезаторного звука. Авторская аргументация, пусть и изобилующая отступлениями, строится в основном на рецепции группы «Молчат дома» зарубежными медиа.
Да, белорусская группа, которую на Западе удостоили комплиментами вроде «саундтрека к будням борцов с тоталитарным режимом» — и правда удобная мишень для обвинения в таком подлоге. И совершенно заслуженно. Графическое оформление их записей — словацкий отель «Панорама», (1970-е), северокорейская гостиница «Рюгён» (начало 1990-х, до сих пор не введена в эксплуатацию), пхеньянский же Монумент основания Трудовой партии Кореи (открыт в 1990-х) — легко позволяют слушателям-неспециалистам экзотизировать их музыку как звук неопределенной социалистической диктатуры.
Белецкий заметит об этом не без должного ехидства. Как и о фирменном «восьмидесятническом» саунде группы, анахронистичном их визуальной части. По заслугам достается не только «МД», но и западным музыкантам якобы левых и деколониалистских взглядов, которые не стесняются использовать образность упадочных монументов Варшавского блока в качестве «элементов более не существующей цивилизации» — в частности, группе Algiers.
Белецкий аккуратно выводит зарождение еще западного постпанка 1970–1980-х из условий жизни в бруталистской архитектуре. Что задумывалась как окончательное решение вопросов комфорта, компактности и жилищной кооперации в условиях послевоенного спроса на недорогое и массовое жилье, но из-за ошибок в возведении и эксплуатации стала сущим кошмаром спальных районов в Британии и Германии.
При этом он наделяет весь стиль отображением тягот подобной экзистенции, перешедшей и в звук. Ввиду того, что значительная часть постпанка была весьма радостной музыкой, спокойно заимствовавшей из «черных» звуковых опытов не только танцевальный импульс, но и злой политический язык, такие пассажи читаются с недоумением. А если искренняя романтизация суровых рабочих районов и присутствовала, то совершенно не мешала музыкантам движения записывать более чем легкие и светлые альбомы с неймингом вроде «Архитектура и мораль».
Эта глава завершается весьма неоднозначным выводом: якобы тяга к «темной» эстетике и тоталитарным аллегориям обязательно приводит музыкантов (и их слушателей) к всамделишному нацистскому вельтаншаунгу и эзотерической картине мира. С двумя характерными примерами: московской группы «Банда четырех» и рязанцами Majdanek Waltz (не имеющими отношения к постпанку вообще). В случае с «Б4» спорить с подобным сложно, особенно учитывая нынешнее участие коллектива Ильи Малашенкова в сомнительных акциях по сбору средств для «детей Донбасса».
Но касательно MW Белецкий цитирует пресс-релиз группы от 2004 года. Не заметив, что после заигрывания с «тональностью духовного аристократизма, железного привкуса национал-гностицизма и герметического символизма» группа из двух юношей еврейского происхождения успела, например, записать альбом на стихи Пауля Целана. Странно: автор здесь зачем-то выполняет функцию скорее полицейскую, нежели исследовательскую.
К сожалению, это не единственный пример выборочности авторского взгляда. Так, еще во введении, рассуждая о затянувшемся ожидании появления новых аналоговых инструментов, но множащихся виртуальных эмуляциях, Белецкий заявляет, что «на принципиально одинаковых инструментах писалась музыка барокко, додекафоническая музыка и минимализм конца XX века». И то ли умышленно, то ли по недоразумению обходит вниманием ряд весомых факторов развития музыки — в первую очередь даже не смену используемых в конструкции материалов и региональные особенности инструментов, а само развитие темперации — интервалов музыкального строя.
Если барочные орган и клавесин — это не сильно восприимчивые к динамике инструменты, то рояль и фортепиано XIX века куда более лабильны к настройкам, открытым Шопеном и французским импрессионизмом. Про американский минимализм, нередко игнорировавший мастерство собственно инструментального звукоизвлечения в пользу звуковых качеств, обеспеченных чем угодно, но не человеческим усилием, проще умолчать. К сожалению, подобные казусы бросают тень на доверие подкованности автора — и не только в отношении музыкальной теории.
Притом что практически каждое высказывание Белецкого глубоко теоретизировано, если не радикализировано. Про альбом «Room for the Moon» российской артистки Kate NV (Кати Шилоносовой) — пластинку о детстве певицы в 1990-х, записанную c помощью приемов, характерных для новаторской поп-музыки рубежа 1980–1990-х и задействующую поп-культурную иконографию из обоих десятилетий, автор пишет следующим образом: «Не очень понятно, осознает ли это смешение и смещение сама Шилоносова или же вправду переносит свое детство на несколько лет назад, предаваясь блаженной культурной амнезии».
Вслед за этим обвинением в «потере чувства историчности» Белецкий огульно хает и музыкальную индустрию, создавшую соответствующий запрос, которому Шилоносова якобы потакает. И отдельных ее наемных работников — проходясь по рецензии журналиста Артема Макарского (Белецкий даже не удосуживается назвать его по имени), автор не считывает, что Макарский говорит буквально то же самое, что и он. Только простым публицистическим словом: без излишнего академизма и стремления заклеймить артистку, но с желанием разобраться в ее собственных попкультурных фантомах.
Иногда претензии автора «Хоть глазочком...» по поводу когнитивных искажений исполнителей и распространителей определенной музыки (и, шире, культуры вообще) можно свести к просто вопиющему тезису: «Читайте больше. Только „научку“». Это интересное упрощение проблем современного музпроизводства, компетентности в нем задействованных и конечного результата. Я не буду разворачивать этот выпад в сторону музыкальных качеств и политического изящества группы самого автора. Как минимум потому, что Dvanov однажды уже карабкались на вершины постсоветских независимых чартов. И, надеюсь, сделают это снова. Но вместе с тем не могу не вспомнить одну историю.
Прошлой осенью я гостил у варшавской художницы Юлии. Поначалу мы беседовали о поп-фикшне. О «Польской духологии» Ольги Дренды. Достаточно личном и высокохудожественном, но понятийно невнятном исследовании притягательности сконструированных коллективных ощущений времени перехода от ПНР к парламентаризму. О «Бедных, но сексуальных» Агаты Пыжик. Точной и красочной истории поп-культурных трансформаций последних лет Польской Народной Республики — хаба, осуществлявшего обмен идеями и культурными артефактами между Востоком и Западом.
Осматривая книжную полку Юлиной кавалерки, я обнаружил там еще и несколько книг гиганта российской лайт-эзотерики Вадима Зеланда. В ответ на мой недоуменный взгляд художница усмехнулась и сказала: «Знаю. Но это мое дело. И в качестве ментальной гимнастики работает ничуть не хуже остальной лабуды». После этого мы бросили светские беседы в пользу обсуждения более теплого. Как мы пришли к тому, чем занимаемся сейчас, что вдыхает в нас любовь к жизни и как мы делимся этим чувством — в творчестве в том числе. Любая необходимость в обрисовывании концептуальной схожести между нами — «постсоциалистического» бэкграунда или еще какого — отпала.
Вкрадчивому, несмотря на периодическую агрессивность, тону «Хоть глазочком...» не хватает именно этого. За тонной слов об искажении человеческих опытов в гиперкапиталистическом поле экспериментов на территории бывшего соцлагеря не видно ничего человеческого. Периодические «экспертные» врезки в текст — литературных критиков, музыкантов и издателей, а также авторские лирические отступления — только усугубляют модус книги. Ледяной разбор некорректности, неправильности и неизменности части ментальных паттернов, характерных для наших соотечественников в музыкальном творчестве, не излагает никакой программы их устранения или мутации.
Последнего вроде бы не предполагает сам жанр книги. Но идеологическое мессианство автора этого просто требует. Белецкий ядовито указывает, что современный левый акселерационизм — всего лишь желание захватывающего идеологического нарратива в эпоху потери такового условными левыми силами. То есть субкультура. И в этом он бесконечно прав. Он спорит с ортодоксальным и неомарксизмом насчет отношения к необходимости утопического мышления в возможных политических программах. Несколько раз упоминает анархистский дискурс — но скорее для галочки. Но при всех резких уколах «капиталистического реализма», «консервативного поворота» и прочих «состояний постмодерна» отследить его собственную позицию сложно.
Более всего она размыта как раз в самой скандальной части книги. Той самой, прочитав которую, деятели «патриотических» умонастроений накатали на Белецкого ДОНОС. В ней он прослеживает траекторию взглядов двух артисток из канона «Нашего радио», Мары и Чичериной, от индифферентного либерализма к идеям этнического превосходства и советскому ура-патриотизму соответственно.
Поместив эту (де)эволюцию на фон общего соглашательства форматной российской рок-музыки с властным аппаратом РФ, Белецкий прослеживает движение этой страты от среднеклассовой политической «невовлеченности» до отсутствия морального выбора в условиях консервационных общественных политик внутри страны. Но не отмечает классовую динамику исполнителей «нашерадийного» канона — не все из которых успешно пережили быстро закончившийся пик популярности нулевых. Ход, не слишком характерный для декларативно левого автора и тем более — исследователя.
При всех этих превратностях «Хоть глазочком заглянуть бы» оказывается предельно острой в самом конце. Белецкий замечает, что недавняя ностальгия по 1990-м в РФ как по времени вседозволенности, эмансипации или по крайней мере крайне контрастному в культурном плане периоду произрастает из аналогичных опусов в самих 90-х. Идиллического раздолья «Старых песен о главном» — историческая послевоенная Кубань вовсе не соответствовала реальности этого мюзикла с песнями разной хронологической принадлежности. И видеоклипов того времени, иконологического калейдоскопа, не отражающего визуальные маркеры повседневности. Это не просто своевременная характеристика совсем недавней и максимальной всеобщей отечественной ностальгии.
Белецкий только задается вопросом, что будет с музыкальной ностальгией по нулевым, но ее уже можно увидеть своими глазами. «В России двадцатых будут много тосковать по нулевым, когда деньги были у всех», — пишет Николай Овчинников, характеризуя творческий метод поп-рэперши Instasamka. Снобизм этого утверждения тем не менее действительно обрисовывает вектор культ-потоков современной РФ.
Клип-синглы пестуемого сверху певца Шамана заставляют вспоминать одновременно музыкально-вокальные решения «Фабрики звезд» и поп-рока нулевых — проектов, обещавших участникам мгновенный и небывалый успех. И, внезапно, — визуальный стиль и сюжеты рекламы банка «Империал», снятой в 1990-е Тимуром Бекмамбетовым с тем же посылом.
Триумфальный сериал «Король и Шут», переместившийся в нулевые уже на третьей серии, — история такого же успеха, пусть и панегиричного в своем полуфэнтезийном антураже. В чисто культурном плане (не говоря уже про социополитику) десятилетие задалось веселое — кажется, нас ждет декада культпродукта, практически неотличимого от средств на его создание.
Отличный повод в очередной раз растечься мыслию по древу, кляня «шизофреническую логику позднего капитализма», чей «конец представить сложнее, чем конец света». Но над этими трюизмами уже успели посмеяться — причем в месте весьма неожиданном.
В конце этого февраля вышла видеоигра Atomic Heart. Не оставившая равнодушным практически никого, кто в свободное время предпочитает гонять мышку с клавиатурой до облезлости клавиш. Ее сделали жупелом еще до выхода. Благо взятые у Mail.ru Group средства для ее создания, покровительствующий разработчикам «Газпром», подозрение в передаче данных игроков в ФСБ, якобы неуместный сейчас советский ретроутопический антураж, многочисленные аллюзии на ксенофобские мемы и российско-украинские «отношения» тому действительно способствовали. Впрочем, если поиграть в Atomic Heart не в твиттере, а хотя бы на ютубе, вырисовывается картина еще более паскудная.
Интересен альтернативно-исторический сеттинг произведения, — а СССР там вышел из Второй мировой еще более покалеченным, но не менее триумфальным. Уничтожив «коричневую чуму» (во внутриигровом мире — буквальное биологическое оружие Третьего рейха, опустошившее Европу), Советский Союз прибрал к рукам полконтинента вплоть до берегов Мааса — без государств-сателлитов и буферных зон. И совершил невиданный научно-технический скачок во всех областях прикладного знания — главным образом в нейрохирургии, авиакосмической отрасли и робототехнике, — немедленно поставив их на службу гражданам.
Однако по ходу игры выясняется, что рай государства, в котором деньги уже почти отмерли, а на любом физическом производстве товаров и услуг давно вкалывают роботы, а не человек, весьма зыбок. В нем все еще существуют национально-освободительные движения подчиненных стран, внутренние диссиденты готовы на весьма кровавые саботажи — лишь бы уничтожить глобальную тюрьму народов, а мозги и тела особо ценных погибших граждан используются на дальнейшее благо партии и народа — обо всем этом не знает практически никто.
Примечательно, что у игры нет положительных концовок как таковых. В одном из возможных выборов герой по незнанию обрекает на уничтожение вообще всю разумную жизнь. В другом — добровольно содействует запуску «Коллектива 2.0» — нейронной сети, объединяющей искусственный и человеческий интеллекты. Управление коей (а заодно — и всеми подключенными к ней) получит непосредственный начальник протагониста. У которого свои, не очень-то оставляющие пространства свободе личности взгляды на развитие человеческого и искусственного видов.
Интересно тут вот что. В саундтрек к игре вошли узнаваемые даже сильно молодым поколением мелодии и ритмы застойно-перестроечной эстрады, от «Звездного лета» Аллы Пугачевой до «Комарова» Игоря Скляра. Хотя все действо игры происходит в альтернативном 1955 году, этому дается в меру разумное объяснение. Простые советские ученые изобрели квантовое радио, хватающее волны популярного звука прямиком из будущего.
Интересный парадокс в свете того, что этого будущего по обеим концовкам у человека в СССР, в общем-то, нет. В первом случае «Траву у дома» и прочие песни века сочинить будет просто некому. Во втором человечеству вообще не понадобятся песни, чтобы строить жизнь — под бдительным оком ученого-диктатора у них исчезнет потребность даже в минимальном внешнем источнике удовольствия и тем более эскапизма.
Таким образом музыка в реальности Atomic Heart существует буквально только во время игры — пока главгерой еще не сделал свой выбор. Ничто так не подчеркивает дистопичность внутриигрового мира, как осознание, что после окончания сюжета альтернативная реальность превращается в атопию — постурбанистическое безвременье в отсутствие всего человеческого. И организованного звукоряда в том числе.
«Хоть глазочком загл