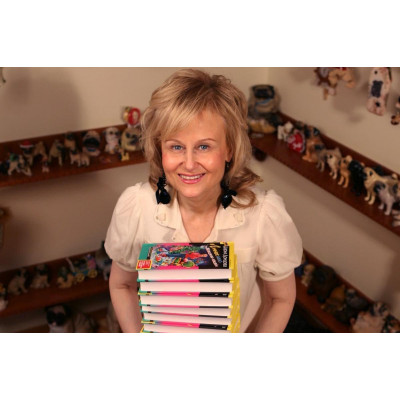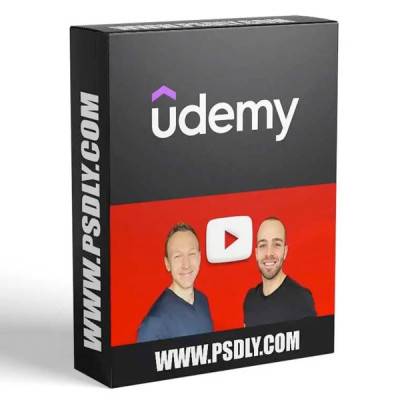Кто с наибольшим шансом получит «Большую книгу»?
15. «Дар речи»
Юрий Буйда
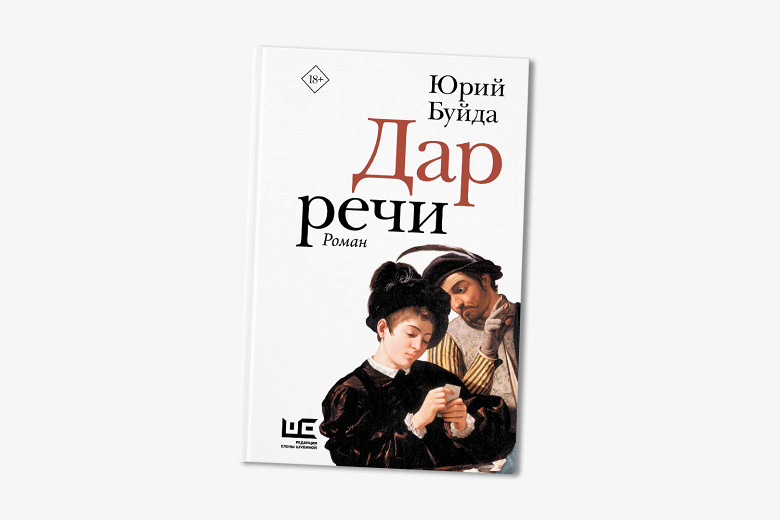
Группа людей с нежными лицами — и именами вроде Грушенька, Бобинька или Моника Каплан — на протяжении нескольких десятилетий пикируются на смеси французского с немецким, рассуждают о русском пути, объясняют друг другу Шекспира, пересказывают Гомера и цитируют Игнатия Богоносца, скучно трахаются, а между делом распутывают вялую семейную интригу. Время от времени погибает какая‑нибудь очередная женщина: поначалу раз в пятнадцать страниц, дальше чуть реже, но не менее бессмысленно. Падает желтый снег.
«А вы никогда не думали о большой книге?» — спрашивает одна героиня другую. Буйда явно думает — много, плодотворно, демонстрируя всем свою эрудицию с энтузиазмом эксгибициониста в вечернем парке. Зачем же это бедному читателю — неясно.
Десять лет назад Буйде достался третий приз за роман «Вор, шпион и убийца». Никаких причин для реванша не видно.
14. «Волшебный хор»
Евгений Кремчуков

Мелкий чиновник Дмитрий Баврин узнает, что на его друга детства, школьного учителя, завели дело об оправдании нацизма. Пока Баврин думает о том, можно ли как‑то выручить друга, три ученицы обвиняют его в домогательствах. После этого Баврин решает подумать еще немного. В принципе, все.
Чтобы раздуть этот нехитрый сюжет до романа, автор бросает в костер все, до чего может дотянуться: размышления о футболе, потоки сознания, пересказанный четыре раза подряд одинаковый диалог, велеречивые раздумья о природе памяти, многостраничные ленты сетевых комментариев — и бессмысленно растянутые предложения в духе худших рассказов Маргариты Симоньян (но у той выходит хотя бы непреднамеренно смешно). Читателя могло бы справедливо возмутить неубедительное сравнение прессинга государственной машины с «новой этикой», но до него еще поди доберись.
Чрезвычайно осторожная критика власти и более смелая — треклятого нового поколения с его треклятой этикой может прийтись жюри по вкусу. Но в целом это самая утомительная книга шорт-листа.
13. «Шолохов. Незаконный»
Захар Прилепин
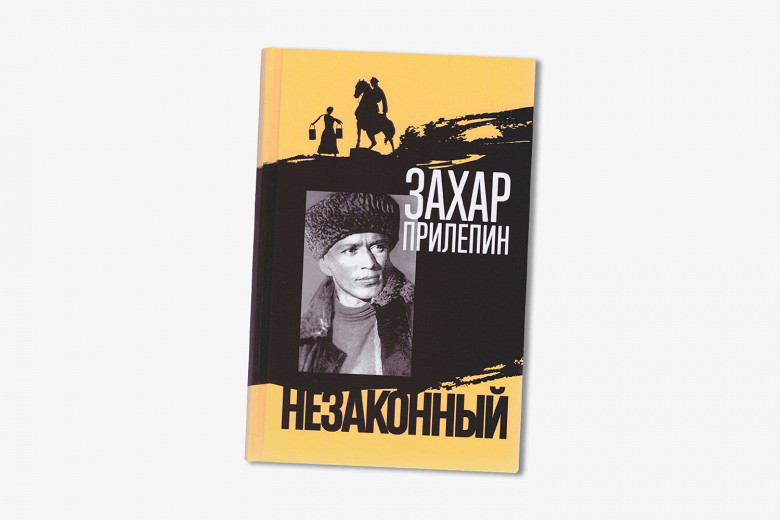
Говорят, что «Тихий Дон» написал не Шолохов. Это не верно! «Тихий Дон» написал Шолохов. Чтобы доказать величину советского гения, подполковник Прилепин тщательно исследует каждый день жизни своего героя, выясняет, с кем он ночевал под одной шинелью (с Брежневым), километрами цитирует шолоховскую эпопею (при сопоставлении оказывается, что Шолохов и впрямь большой писатель — по меньшей мере больше биографа), с линейкой выясняет его рост и место в шеренге классиков: выше Гоголя, ниже Есенина.
С одной стороны, масштаб и тщательность проделанной работы вызывают уважение, с другой — Прилепин по-плюшкински тащит в книгу абсолютно все и вместо создания портрета сложного человека протирает образ Шолохова до полной прозрачности и бесцветности. А написан этот рыхлый тысячестраничный том так, что самым большим комплиментом стала бы фраза «Он очень старался». Ну, по крайней мере, каждая минута, потраченная на эту книгу, отвлекала его от куда более гадких занятий.
По версии Прилепина, все зависит от количества евреев в составе жюри. По нашей версии — от того, захочет ли жюри разозлить всех ради того, чтобы наградить невыдающуюся биографию.
12. «Чагин»
Евгений Водолазкин
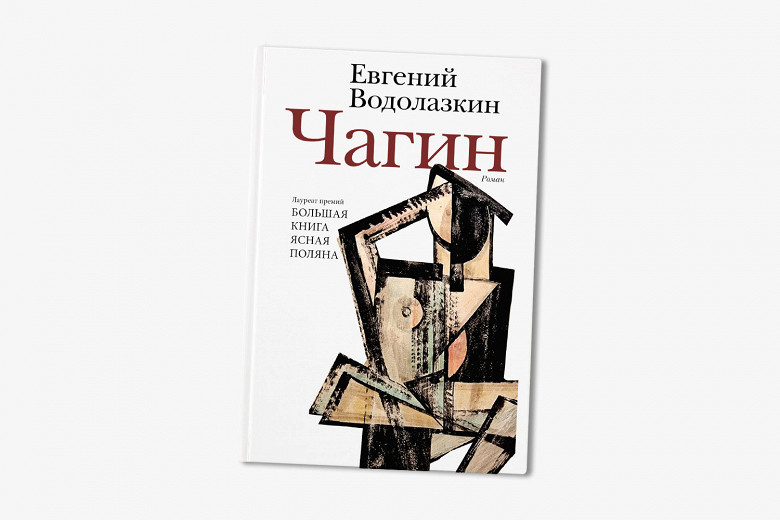
Если герой водолазкинского же «Авиатора» никак не мог вспомнить свою жизнь, то архивист Исидор Чагин, наоборот, никогда ничего не забывает (разве что с лицами проблема). Впрочем, о его жизни мы узнаем от других персонажей: вот молодой коллега изучает его дневники, вот о нем рассказывает друг, а вот сплетничает своего рода работодатель (чтобы избежать спойлеров, намекнем, что суперспособность Чагина находит применение не только в архивном деле) — каждый следующий рассказчик ненадежнее другого.
Повествование бодро прыгает из жанра в жанр — от пародии на плохой детектив до утомительной любовной переписки, — и Водолазкин по-прежнему умеет писать о том, что ему видится важным, не становясь банальным. Но читать это не столько интересно, сколько любопытно.
С одной стороны, это первая за десять лет книга Водолазкина, хоть немного подобравшаяся к высочайшей планке, которую он сам и задал «Лавром», с другой — повторить чудо снова не выходит. На то оно и чудо, наверное.
11. «Валсарб»
Хелена Побяржина
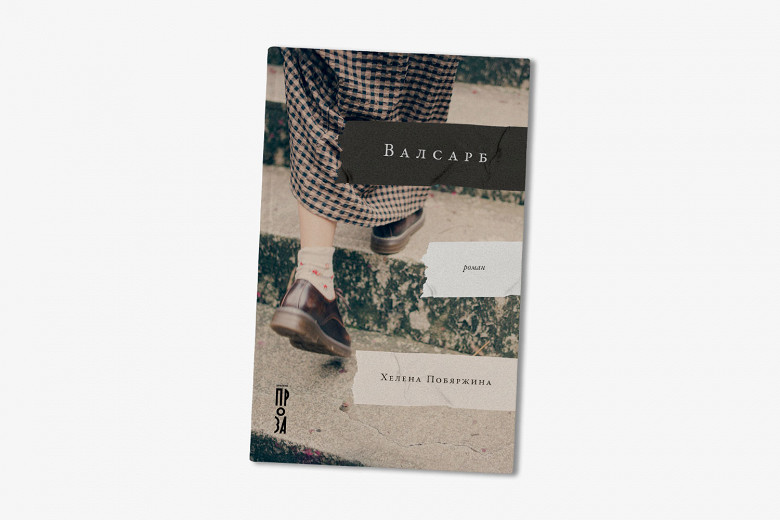
В городе Валсарб (это родной для писательницы Браслав наоборот: таких нехитрых перевертышей в книге куда больше, чем запоминающихся персонажей) живет маленькая девочка — слегка недолюбленная и сама себе предоставленная, но любопытная, глазастая и еще видящая «бывших людей», мертвецов, чья жизнь оборвалась Второй мировой. Общаться с этими «бывшими» оказывается куда интереснее, чем с нынешними соседями и родственниками, которые и не помнят, что в их городе было гетто.
Вслед за героиней писательница (или наоборот) всю дорогу обсессивно играет с языком — язык обычно выигрывает — и так увлекается плетением словес, что забывает приделать к ним сюжет. Обидно: здесь есть и много интересных находок, и спрятанная между строк реальная история браславского гетто, но доберутся до них лишь самые терпеливые.
На стороне «Валсарба» — чуть нарочитая поэтичность и затерявшийся в поэтических завихрениях исторический сюжет, к которым жюри питает слабость.
10. «Комендань»
Родион Мариничев
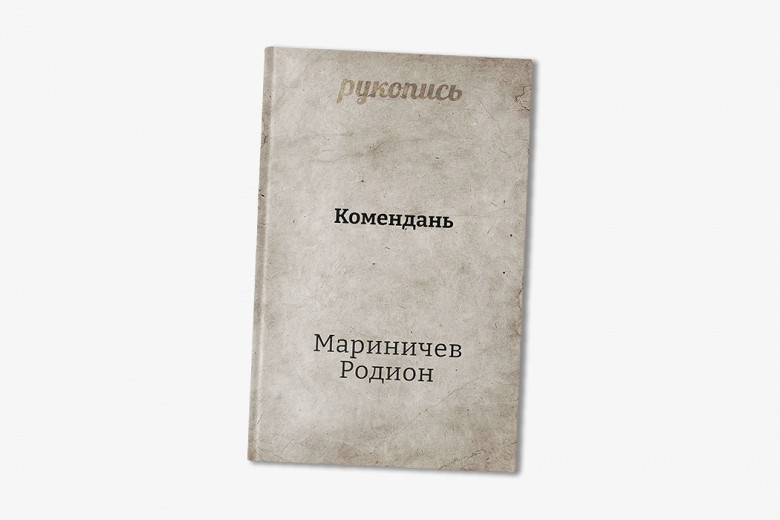
Школьную учительницу Таню угораздило родиться девятого мая. Праздник снова приближается, и неясно, что пугает больше: шабаш, в который День Победы превратился в новой России, или перспектива встречать его в компании недавно вернувшегося из Сирии мужа, у которого в жизни две радости — патриотизм и алкоголизм. А еще у Тани есть финские и карельские корни, и поэтому в их семье помнят не только блокаду Ленинграда, но и Зимнюю войну, про обстоятельства которой в России предпочитают молчать.
Написанная в 2020 году повесть (на самом деле — небольшой роман) Родиона Мариничева разламывается на две части. Первая — исторический экскурс в сложнейшую историю взаимоотношений между русскими, финнами и карелами на протяжении прошлого века; ради нее книгу и стоит читать. Но сверху история скреплена мелодрамой на грани с фельетоном: карикатурно печальные протагонисты страдают на кухне под портретом Шевчука от мерзости карикатурно гадких антагонистов. Финал же, если вычесть из него неудобный комментарий о природе того, что у нас называется патриотизмом, смотрелся бы как влитой в сериале для канала «Россия».
В дни написания этого текста Финляндия как раз готовится закрыть границу с Россией — так что болезненная тема, скрытая за ходульным сюжетом романа, стала только актуальнее, и эта актуальность в наши нервные времена может только помешать.
9. «Выше ноги от земли»
Михаил Турбин

К врачу-анестезиологу Илье, который пашет в провинциальной больнице как проклятый, привозят сбитого машиной мальчика. Кто сбил его, известно сразу, а вот что малыш делал ночью на трассе и где его семья — неясно. Именно за эту загадку и хватается Илья: довольно скоро выясняется, что он топит в бутылке и переработках тяжелое горе, а мальчик просто напомнил ему сына, которого не удалось спасти. Полудетективная история перемежается с флешбэками — и читатель узнает, как жизнь Ильи сломалась и есть ли в нем силы ее починить.
Дебютный роман молодого писателя, пожалуй, можно упрекнуть в излишней отличнической старательности, так лекально собран его сюжет. Но там, где Турбин немного отпускает вожжи, чувствуется такая эмоциональная сила, что фамилию эту, пожалуй, стоит запомнить на будущее.
Роман похож на очень мрачного двойника «Аритмии»: независимо от успеха на премии, будет странно, если автор до конца года не продаст права на экранизацию.
8. «ОТМА. Спасение Романовых»
Алексей Колмогоров

В этом году писатели наперегонки принялись выручать в своих книгах Романовых. В «Бронепароходах» Иванова злосчастной пули избегал Великий князь Михаил Александрович, у Колмогорова из подвала сбегает целая императорская семья (спойлер: судьба спасенных в обоих случаях схожа). Николай с дочерьми (Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия — те самые ОТМА) едут инкогнито по России, сталкиваясь то с красными, то с белыми, то с бароном Унгерном, который хуже их всех вместе взятых.
Ничего не сказать: читать это страшно увлекательно. Набивший руку на второстепенных сериалах и основательно углубившийся в исторические детали Колмогоров выдает закрученный и бойкий беллетристический сюжет (в какой‑то момент случается погоня с участием самураев на верблюдах), а к финалу «ОТМА» оборачивается чем‑то вроде