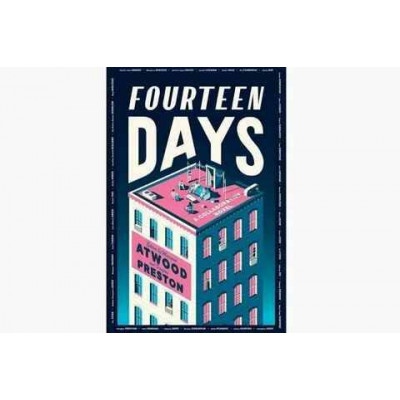Эдуард Лукоянов об «Амальгаме» Кати Морозовой
Волей-неволей задумаешься иногда о городах, а то и целых странах, которые, как обещают в прессе, довольно скоро уйдут под воду, если человечество не придет к углеродной нейтральности. Например — о Кирибати, бедном островном государстве, разбросанном по Тихому океану. Для его спасения однажды придумали возвести искусственные атоллы из пластика, который засоряет мировые воды, но местное правительство решило, что все же целесообразнее перенаправить весь бюджет в образование, чтобы граждане смогли найти себе приличную работу, когда станут климатическими беженцами. Тут же задумаешься о Маршалловых Островах, где особняки офшорных миллиардеров скоро будут наползать друг на друга, как хижины в трущобах Сан-Паулу или Калькутты. «Я приговариваю тебя к казни водой!» — будто говорит нам мироздание вслед за кафкианским Отцом. И к сожалению, так мы устроены, но мало кому будет искренне жаль приговоренных, которых коллективное человечество едва ли в состоянии отыскать на карте.
Совсем другое дело — территории, включенные в разнообразные списки, скажем, ЮНЕСКО. О них нас учат думать, что они — наше общее нематериальное и материальное достояние. На ум первым делом приходит Венеция с ее открыточными видами, пережившими многочисленные войны и власть фашистов, некоторых из которых сами же породили. Вторым делом на ум приходит Санкт-Петербург, который для туристов называют Северной Венецией. Куда бы ни увела страну власть, вряд ли многие от души обрадуются, когда ледяные воды смоют Эрмитаж вместе с Исаакием, и только призраки с «Авроры» будут тяжело гудеть, бродя между раздувшихся и почерневших трупов с нечеткими чертами лиц.
Дебютная книга прозы Кати Морозовой плавает и учится дышать водой одновременно во всех этих по большей части воображаемых мирах, в действительности имеющих лишь номинальную территориальную привязку.
Открывает этот сборник из пяти или шести текстов рассказ «Венецианки», жанровая принадлежность которого определена как кводлибет. В данном случае под этим жутковатым словом имеется в виду нарочито долгий каталог вроде бы не связанных между собой людей, явлений, ситуаций:
«Маленькая Леда сквозь полусомкнутые веки разглядывает силуэт кого-то из кузенов, сопящего над ней с намерением приняться за свое. Голова медленно раскалывается, хрустит под натиском сероватого неба. Козима не переносит, когда супруг, что-то в экстазе бормоча, запускает руки в ее волосы, напоминающие сразу и пучок водорослей, и гнездо чайки, и венок из гиацинтов. В окне густой субстанцией почти неподвижная стоит вода, к мутно-зеленому воздуху примешиваются испарения шляп, туфелек, затхлых париков и нестираных перчаток. Мадам Ларош видит в тарелке свернувшегося клубочком крошечного осьминога Octopus vulgaris и признает в нем сгусток эмбриона, который извлек из нее доктор, кажется, за пятьдесят франков».
И так далее, пока тот, кто составляет каталог, не приходит к закономерному выводу, что «это можно продолжать бесконечно».
В современной культурной ситуации, приветствующей апокалиптические мотивы, этот художественный метод ассоциируется прежде всего с самыми субверсивными литературными практиками — от Николая Гоголя до Питера Сотоса. В «Венецианках» вроде бы не происходит ничего фантастического, экстраординарного, и все же центральное чувство этого компактного текста — тревога почти мистического характера, а вернее тревожность от постоянного присутствия щупалец осьминога, то становящегося человеческим эмбрионом, то блюдом на тарелке, то групповым изнасилованием. Перед нами онтологический тру-крайм, в котором нет трупов, но в котором каждый кусок металла — это в потенции орудие для аборта, а каждый цветок — насильник. Само бытие здесь обретает явные преступные черты.
«Венецианки» наверняка отпугнут иного читателя своей герметичностью, напоминающей о прозаических опытах, например, Аркадия Драгомощенко или Шамшада Абдуллаева. Однако такое впечатление неизбежно возникнет лишь при их чтении в отрыве от остального корпуса текстов, вошедших в книгу. «Венецианки» — это скорее не самостоятельный рассказ, а предисловие, которое в концентрированном виде содержит то, что будет развернуто в дальнейшем.
Например, в следующем сразу за «Венецианками» рассказе «Инкубация», центральным образом которого становится игла Адмиралтейства. Если в открывающем текст сборнике сомнению подвергаются физические свойства окружающего мира, мутирующие в монстров, когда проникают в наше сознание, то здесь схожим образом препарируются свойства памяти. Какого цвета один из визуальных символов Петербурга? Точно ли золотого? Или это ошибка нашей памяти, а в действительности он бесцветный, но позолоченный солнечными лучами? Тревожности этим и без того неуютным сомнениям придает триллерообразный сюжет, в котором источником саспенса становится чеховское ружье, которое непременно выстрелит и вопиющую литературность которого полностью осознает повествователь — но ничего не может с этим поделать.
Заглавная «Амальгама» привлекательна прежде всего тем, что в ней ярко, отчетливо и понятно проступают черты того, что при желании можно назвать «обновленный русский вирд» (ОРВи). Из особенностей этого несуществующего жанра стоит назвать безритмовость повествования, а также кафкианский интерес к бюрократии и документации, сопряженный с недоверием к документу:
«Слежка за ландшафтом, линией горизонта, которую он вел со своего поста на балконе, по сути была тем же, чем занимались я и многие другие сотрудники департамента, фиксировавшие, наблюдавшие, вычислявшие, предсказывавшие то, что теперь нас ждет, — откуда бы оно ни шло, из лагуны ли, тумана, с соседних островов или материков, — только господин в мышином пальто делал это в одиночку, тайно».
Мы еще наверняка не раз встретим в новейшей русскоязычной литературе этот образ человека, служащего на непонятной для окружающих службе и ведущего документацию неизвестного назначения. Характерно, что и в пределах этого сборника закрывающий его текст с гипертрофированно поэтичным названием «Снег и камень» носит подчеркнуто сухой подзаголовок «Заметки к состояниям». (Тут сами собой рождаются ассоциации с совсем другим автором, создающим ОРВи в петербургском антураже — Алексеем Конаковым и его «Дневником погоды».) Это самый личный и очевидно автобиографический текст сборника о страхе зачатия, страхе вынашивания плода, страхе родов, страхе больше никогда не любить и не быть любимой, вообще — страхе изменить свой онтологический статус, став то ли жертвой, то ли соучастницей все того же глобального преступления (трансгрессии?) бытия:
«Последние дни зовусь дочерью, только дочерью, потом превращусь в мать. Зачем метаморфоза так мучительна? Было ли Дафне, Дриопе, Ио больно становиться иными? Переход в другое состояние всегда отмечен некоторым безумием».
Эта мучительная вопросительность — еще одна важная черта прозы Кати Морозовой и других писателей, действующих в поле ОРВи. На протяжении всей книги также наблюдается удивительное явление: всевозможные «кажется», «наверное» и прочие признаки сомнения из паразитоподобных частиц превращаются в полноценные смысловые единицы, чтобы постепенно, уверенно, будто холодными щупальцами подвести к тексту, образующему, пожалуй, ядро книги — диптиху «Трамонтана, аквилон», который так и начинается: «Казалось, это другой город. Нет, другая страна, другая земля». («В незнакомом городе, в незнакомой стране», — подтвердил бы Томас Лиготти, едва уловимо и, возможно, неосознанно, но все же присутствующий в «Амальгаме».)
Обнаружить исток морозовской прозы легко, если прибегнуть к нечестному приему — посмотреть на список авторов основанного Катей Морозовой журнала «Носорог», со временем ставшего издательством. Это спекулятивный реалист Квентин Мейясу и безумный перс Реза Негарестани, отчаянный самоубийца Эдуар Леве, уже упомянутый Шамшад Абдуллаев и так далее. Да, такая литература требует известных усилий от тех, кто захочет ее полюбить, и все же в ее версии, созданной Катей Морозовой, есть ценнейшая особенность, которую можно передать словами лишь иносказательно.
Представьте себе ситуацию. Лесник совершал обход, помечая краской деревья, подлежащие вырубке. Тут же, среди папоротника и мха, он обнаруживает труп пришельца — не какого-нибудь проклятого Ллойгора, а гуманоида, похожего на нас с вами: две руки, две ноги, безволосое туловище, разве что голова немного крупнее и глаза занимают ровно половину лица. И вместо того чтобы вызвать прессу, которая рассказала бы миру о первом достоверно подтвержденном контакте с внеземными цивилизациями, лесник хоронит пришельца по христианскому обычаю.
Уже потом, годы спустя, тот же лесник расскажет о случившемся какому-нибудь репортеру, ищущему сюжеты об ужасающих срезах реальности. К рассказу старика он добавит немало отсебятины и получившийся текст назовет «Водяной с Титана». Подумав, он для пущей интриги добавит к заглавию вопросительный знак.
И все же есть в похоронах пришельца по заведомо неизвестному ему обряду некое высшее милосердие, презирающее общепринятые представления о человеческом общежитии и потому над ними возвышающееся. Такова и дебютная проза Кати Морозовой из сборника «Амальгама».