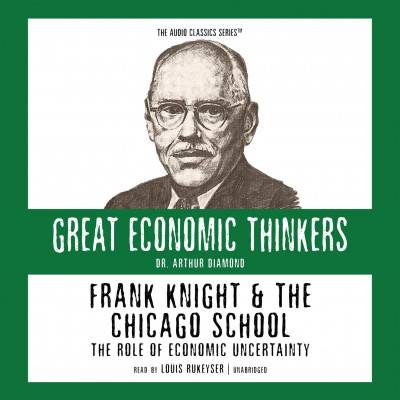Дмитрий Быков однажды встретился с Евгением Евтушенко и узнал о себе все, что ему, собственно говоря, было нужно...
Евгения Евтушенко я впервые увидел в сентябре 1983 года в журнале «Юность». Там работала литконсультация, куда молодые поэты могли отнести стихи, получить профессиональный разбор малоизвестного поэта и, если сказочно повезет, напечататься. К пятнадцати годам я накопил некоторое количество стихов, за которые было уже не совсем стыдно, и решил публиковаться. Никаких окололитературных связей у меня не было, и я просто пошел в редакцию, расположенную тогда на Маяковке, прямо напротив метро.
Стихи эти, как я теперь понимаю, были небезнадежные. Я их до сих пор помню наизусть и мог бы процитировать, но стал с годами несколько застенчивее, чем был в пятнадцать. Мне сказочно повезло, потому что моим литконсультантом оказался Виктор Коркия. Там паслось на рецензентских и консультантских хлебах некоторое количество графоманов, плюс платили за ответы на читательские письма, — копейки, конечно, но для тогдашнего поэта тоже приработок, — и в большинстве своем это были люди озлобленные, срезавшие новичков с садическим удовольствием. Но Коркия был — и остался сейчас, сорок лет спустя, — большим поэтом, может быть, лучшим в своей генерации. Я тогда знал ничтожно мало его стихов, потому что печатался он, что называется, по чайной ложке. Год спустя в редакции «Собеседника», где я уже внештатничал, Валерий Пак пел свои песни на его стихи и сказал: «Коркия вахлак, он ср…т себе везде, где только может». Со временем я познакомился с Алексеем Дидуровым, через литературное кабаре которого прошла вся молодая поэзия Москвы, — и там мне стали известны тексты Коркии, которые действительно исключали всякую советскую карьеру: «Синяя роза», «Гималаи», гениальные поэмы «Сорок сороков» и «Свободное время», все вот это, что вошло потом в его первую книжку и разлетелось на цитаты. Просто физическое наслаждение это цитировать: «В Зимнем дворце никаких перемен, пара гнедых на Кузнецком мосту, черная “чайка” уносит Кармен вахту нести на почетном посту. Дмит-рий зарезан, шлагбаум закрыт, хмурое утро Юрьева дня, русский народ у разбитых корыт насмерть стоит, проклиная меня…» Я это цитирую, хотя речь у нас о Евтушенко, не в последнюю очередь потому, что Евтушенко знал ему цену и потому оказалось возможным все дальнейшее.
Коркия меня внимательно прочитал, опознал в одном стихотворении песню (я ему напомнил, что у него тоже есть явно поющиеся вещи, и даже что-то процитировал), и тут в кабинет отдела поэзии на втором этаже, где это все происходило, внезапно вошел Евтушенко с Олегом Хлебниковым. Я знал обоих, потому что вообще за литературой следил. Истинный масштаб Хлебникова был мне тогда не ясен, он слишком был для меня прозаичен и, что называется, ходил под Слуцким, хотя ни в чем ему не подражал; полюбил я его гораздо позже — и поэтически, и по-человечески, и сам он, мне кажется, в девяностые резко вырос. А Евтушенко необъяснимым для меня образом стал в мои лет двенадцать чуть ли не любимым поэтом, началось это с второстепенной вроде бы поэмы «Северная надбавка», напечатанной все в той же «Юности». На меня тогда — и до сих пор — гипнотически действовали сюжетные вещи, очень мне нравилось умение поэта говорить стихами естественно, работать на стыке прозы и стиха, как делали Белый и Маркес. Например, очень мне нравился и нравится сейчас Вадим Антонов, чья поэма «Графоман», напечатанная в «Литучебе», поражала именно естественностью речи и особым ее изяществом, при всей грубости содержания. В Евтушенко было — даже в сравнительно жидкие у него семидесятые годы — умение припечатать явление, точно его назвать, высказать о себе — иногда кокетливо — самое тяжелое и отвратительное, вообще была прямота и решительность выхода на тему. Очень мне нравился «Голубь в Сантьяго» — как он потом признался, любимая его вещь, — и я не отвлекался на чилийский антураж: понятно было, что Чили там ни при чем. В каждой его вещи, самой проходной, были две точных строки, а иногда и половина таких строк — по советским временам процент высокий. Поскольку дома выписывали почти все хорошие журналы — это было тогда сравнительно недорого, — я за всем, что у него печаталось, следил. Ну, навскидку: «А собственно, кто ты такая, с какою такою судьбой, что падаешь, водку лакая, и все же гордишься собой». Я примерно понимал, про кого это. Или: «Сей молодой стихослагатель, владелец мускулов тугих, похож на самовыдвигатель и задвигатель всех других» — это было уже про многих. И совершенно восхищали меня программные вещи типа: «И если сотня, воя оголтело, бьет одного, пусть даже и за дело, сто первым я не буду никогда». «Бабьего яра» я не знал, «Наследников Сталина» тоже, вообще его политическая слава до меня не доходила, поскольку в шестидесятые я не жил, а мать к ним относилась скептически как ко времени поверхностному. Когда вышел первый большой диск Окуджавы, который я заслушал до полного износа, там было предисловие Евтушенко, который писал, что в каждом поэте слышится некий музыкальный инструмент: в Пушкине — оркестр, в Тютчеве — фортепиано, в Боратынском — скрипка, в Есенине — тальянка, а в Окуджаве и без гитары была бы гитара. Когда я с матерью это обсуждал, она сказала, что сам-то он губная гармоника, но оно было ради красного словца. У матери вообще был гамбургский счет, вот Блок — это да, про Блока никто при ней не мог сказать худого слова.
К пятнадцати у меня уже были другие кумиры, и даже в собственном его поколении мне уже больше нравилась, скажем, Матвеева (к которой я год спустя пойду в ученики), а потом открылась мне красота и прямота ленинградцев, и с 1986 года всех потеснила Слепакова, — но это после. Я уже понимал, что у Евтушенко написано и, главное, напечатано страшное количество шлака, — но впечатление он производил значительное, даже когда говорил, писал и печатал ерунду. Эта значительность проистекала не только от его высокого роста, не только от феноменальной памяти и знания страшного количества стихов, не только от ауры мировой славы, которая, как загар, лежала у него на лице (а он был тогда, в первую встречу, очень загорелый, откуда-то из Никарагуа, вероятно), — нет, он вообще был то, что называется значительным человеком, таким дают визу outstanding или extraordinary. И он вовсе себя не носил, в нем и с возрастом не появилось тяжеловесной советской значительности, было даже мальчишество (тоже, пожалуй, осознанное и дозированное), — но экстраординарность бросалась в глаза всем, кто его видел. Он мог быть одет как угодно, — а для визитов в «Юность» он одевался пестро, был на нем тогда какой-то пестрый пиджак в голубую и розовую клетку, кепка тоже была, кепки он любил, — но значительность эта обеспечивалась, конечно, не костюмами. Я был знаком с большинством значительных поэтов позднесоветского времени, и все они сейчас, страшно подумать, уже умерли, и сам я старше, чем Евтушенко был тогда (ему было 50), — и все-таки магнетизм исходил от немногих: я совершенно немел в присутствии Окуджавы, ну и в присутствии Евтушенко у меня было ощущение чего-то крайне незаурядного. (Про Матвееву не говорю — она просто была ангелической сущностью, при всех своих странностях, но ангел и должен быть странным.)
Для Евтушенко очень характерно было любопытство. Коркия ему сказал: вот, Евгений Александрович, молодой человек стихи принес, по-моему, ничего себе, — и он тут же взял и стал просматривать. Другому было бы плевать, а этот интересовался, и вовсе не для того, чтобы создать вокруг себя секту восторженных адептов, а потому, что любил стихи и как-то все надеялся встретить гения. Он вообще, как и его вечный друг-враг-соперник Вознесенский, открыл страшное количество талантливых людей, напутствовал сотни молодых. Он быстро меня прочел, сказал, что есть талант, но: «Вы стараетесь поднимать небольшие штанги. А надо замахиваться на большие. Учтите, продукты старения накапливаются в человеческом организме уже с 24 лет». Меня это поразило, и я это запомнил. Про большие штанги я тогда вообще не думал.

Они еще поговорили с Коркией и Хлебниковым — Евтушенко стал хвалить Катю Горбовскую, лучшую из молодых. Ее стихи тогда широко ходили по Москве, у нас вообще литературный город, в котором возникают внезапные моды, и тогда ее действительно в любой литературной компании читали вслух. Вообще, было время поэтическое, новизной веяло задолго до политических перемен: уже гремел Еременко, уже знали Жданова, уже цитировали Бунимовича — «Не все то головы, что сорви, не все то Родина, что в крови», — и в «Юности» кучковались люди, которые скоро сделались лицом отечественного авангарда, от Искренко до Иртеньева, от Новикова до Туркина. Хлебников прочел из Горбовской: «Медленно ползет лифт меж этажей, очень мне везет на чужих мужей. Прислонюсь к стене и кусаю рот, потому что мне вообще везет». «Ввввообще вввезет! — воскликнул он. — Как дан жест прикуса!» Я тогда тоже это запомнил, потому что совсем так не умел и вообще на инструментовку обращал мало внимания.
— Счастья, — коротко сказал мне Евтушенко и протянул руку. Я вышел довольно осчастливленный. Правда, похвала Коркии на меня больше подействовала, но все равно это было очень круто. Обидно, что мне почти некому было об этом рассказать: дружил я в основном с технарями, с которыми меня сближал интерес к фантастике, а в поэтических тусовках, кроме волгинской студии «Луч», почти не бывал, и слава Богу.
С тех пор я видел Евтушенко бессчетное число раз, в России и за границей, резко с ним расходился, сильно сближался, но несомненны для меня всегда были три вещи: огромная его человеческая значительность, интерес и жадность к чужим текстам (и безошибочный вкус, который в собственных стихах ему регулярно изменял) и живейшее ощущение свежести и яркости, которое он с собой вносил. Ему интересно было жить, и на него интересно было смотреть. Он был вот та «пылинка дальних стран», которая «на ноже карманном». Даже плохие его стихи увлекательны, даже самоповторы его не надоедают. Он подставлялся часто и откровенно, и ячество его могло раздражать, и многословие несомненно — даже из лучших стихов можно выбросить строфу-другую, и будет только лучше. Я думаю, если бы он написал одно четверостишие: «Сосед ученый Галилея был Галилея не глупее, он знал, что вертится земля, но у него была семья», — он бы вошел в историю как гений, непризнанный, может быть, и не открытый, — но даже в этом стихотворении «Карьера» гораздо больше строчек, чем четыре, и все они по-своему хороши, но после этого четверостишия ничего уже не нужно. Но и в этом многословии после всеобщего молчания, и в этом ячестве после многовекового мычества была свежесть, «огуречная свежесть», как говорил Бунин о черноморской воде. Видно было, что Евтушенко добр, и добр не напоказ. Окуджава мне рассказывал, как Евтушенко приходил в его кабинет завотделом поэзии в «Литгазете» — вообразите, была у Окуджавы и такая должность в самом конце пятидесятых, — садился на стол и начинал названивать по телефону, решая не свои, а всегда чужие дела. И делал он это не в расчете на чужую благодарность, а исключительно потому, что был у него этот инстинкт помощи. Он и меня однажды ночью, когда я у него засиделся, отвез домой, благо было недалеко: «А то еще потом сиди волнуйся, как вы добрались». Очень возможно, что от всей моей литературной биографии останутся два факта: однажды меня на Мосфильмовскую подвозил Евтушенко, а на Московский вокзал — Гребенщиков. Оба очень гнали, но не потому, что их тяготило мое общество, а просто они так ездят. Но вот эти две поездки я уверенно ставлю себе в заслугу (ну и еще ненависть некоторого количества литературной сволочи — ненависть, вполне адекватную моим истинным масштабам, по крайней мере мне хочется так думать).
Мы любим тех, с кем нравимся себе, и его присутствие в моей жизни резко повышало мое самоуважение. Было одновременно два вечера в ЦДЛ — два восьмидесятилетия, его и Аннинского, первый поэт и первый критик поколения. Аннинский был свеж, бодр и подтянут, думал вслух интересно, вопросы отбивал, как ракеткой; Евтушенко был уже болен и говорил, несколько путаясь. Евтушенко дали большой зал, Аннинскому — малый, в большом была сначала давка, но постепенно все стали перетекать к Аннинскому, потому что говоримое им было динамично, спорно и, как всегда, в нерв. Но к Евтушенко я привел своих студентов и провел их к нему за сцену, и от того, что мы с ним расцеловались при встрече, мой авторитет (а заодно ЧСВ) вырос стремительно. То есть я это просто физически чувствовал — то, как они на меня смотрели. А это был любимый курс, олимпиадники, ребята язвительные, — но вот его аура действовала и на них, которые вообще над всем смеются. И еще помню, как с некоторым количеством тех же студентов поехал к нему в Переделкино, на интервью, — и он мне крикнул с порога:
— Я ее победил наконец! —
И мои хором подхватили:
— Я завлек ее в мой дворец!
И он уважительно поднял указательный палец. Он ценил, когда знали Блока. Блок вообще совесть наша, был и есть, несмотря на все свои ужасные провалы вроде «Скифов», про которых ЕЕ в «Ягодных местах» сказал, что это вообще не русские стихи. И правильно.
Относительно его вечного соперничества с Бродским — что тут скажешь, процент очень хороших стихов у Бродского значительно выше; вообще, поэт определяется не количеством хороших стихов, как это ни печально, а числом плохих. Если есть шедевры, но их, как сорняк, душит некоторое количество слабых, — все равно помнить будут это количество, а шедевры как-то среди них затеряются; это ужасный парадокс. Единственным исключением является все тот же Блок, про которого Маяковский сказал: у меня из десяти стихотворений пять хороших, а у него два. Но таких, как эти два, мне не написать. Проблема в том, что и у Бродского хватает шлака, просто этот шлак лучше выглядит, чем у Евтушенко, он, что ли, кондиционнее, внешне грамотнее, формально изобретательнее. А так-то очень многое у Бродского утомительно: он, кажется, стал обретать какое-то новое дыхание в конце восьмидесятых — начале девяностых, когда стихи опять стали короткие. Но в семидесятые и кризисные восьмидесятые он, как сказал один умный сверстник, говорит инерционно, в слишком большой уверенности, что будут слушать. И если хорошо составить сборник Евтушенко — а я со временем возьмусь, — это будет сборник сверкающий. Таких стихов, как «Долгие крики», в русской поэзии мало.
И этот дешевенький скепсис, который так модно было проявлять относительно ЕЕ, — помню, как сказал один сильный филолог: да, у Бродского много плохого, но Евтушенко же вообще несерьезно, — это теперь поблекло. Оказалось, что он был живой, а в мертвом мире — все более мертвом с годами, все менее человеческом — это главный витамин и самый серьезный дефицит. Это свойство живой материи, не обязательно высококачественной, — утешать в мертвеющем мире; живая собака лучше мертвого льва, особенно если учесть, что среди живых сейчас тоже полно полумертвых. Евтушенко был ослепительно живой человек. И у него был феноменальный талант говорить стихами. И многие из этих стихов уже впечатаны в русскую поэзию насовсем, даже при том, что сама эта русская поэзия стала гораздо менее престижным занятием. Но она никуда не делась, потому что во время войны ничего другого писать нельзя, а военное время у нас теперь, кажется, навсегда.
И если я начал поднимать большие штанги, — неважно, высоко ли я их поднимаю и долго ли удерживаю, — это его заслуга, так что спасибо.