Что почитать из советской литературы стран Балтии
В советское время у всего «прибалтийского» был особый и сложный аромат. В хмелящий юрмальский бриз вплетались пестро-жгучее разнотравье рижского бальзама и вкус эстонских конфет «Kalev», а тминный деревенский хлеб вступал в идеальный дуэт с литовскими картофельными колбасками — ведераем. Однако всегда кто-то улавливал в этом букете и дымы концлагерных крематориев, и испарения жемайтийских болот, островки которых давали укрытие «лесным братьям».
Невероятные исторические виражи, в которые вверглись три небольшие балтийские республики в первой половине ХХ в., не могли не преломиться в их художественных пространствах. Предвоенная вереница пактов, размещение в регионе советских военных баз, возвращение Литве Вильнюса, ультиматумы, включение трех республик в состав СССР, коллаборационизм, легионеры-добровольцы и мобилизованные в легион (были сформированы две латышские дивизии СС и одна эстонская, но попытки немцев создать литовский легион провалились), раскулачивание, депортации, резистенция — антисоветское сопротивление, наиболее развившееся в Литве (последние отряды «лесных» были уничтожены в середине 1950-х гг.), — дрожат, пульсируют и кровоточат на книжных страницах и в кинокадрах.
Советские прибалтийские писатели и киношники парадоксально балансировали между антисоветскостью и лояльностью режиму. Родной брат актрисы, игравшей Рамуне — главную героиню в экранизации романа Миколаса Слуцкиса «Лестница в небо» (реж. Р. Вабалас), — был офицером ВМФ СССР, угнавшим за пять лет до выхода фильма боевой корабль в Швецию. Сам Слуцкис, член КПСС и секретарь Правления Союза писателей ЛитССР, переживший войну в эвакуационном детском доме, одним из первых в советской литературе попытался сказать о том, что среди «лесных братьев» были и те, кого «шляться по лесу» вынудили силой, обманом или шантажом.
В одном из самых жутких киновысказываний о фашизме — «Иди и смотри» (реж. Э. Климов) — роль карателя, отдающего приказ сжечь набитый мирными жителями амбар, сыграл Виктор Лоренц, сам когда-то мобилизованный немцами. Другой легионер — бывший железнодорожный рабочий Эгон Лив, после войны восстанавливавший Беломорканал и служивший в советском стройбате, — подался затем в прозу и киносценаристику. Он стал и членом республиканского Союза писателей, и лауреатом литературных премий. Несмотря на биографию, его произведения экранизировались и инсценировались. Жизненные траектории советских прибалтийских творцов (впрочем, как и людей самых разных занятий), сами по себе часто тянут на сюжеты для пьес, романов и фильмов.
На советскую художественную литературу Балтии сегодня можно смотреть как на однородный пласт, хотя когда-то для специалистов он отчетливо расслаивался на всевозможные течения и направления. Много писали, к примеру, о литовском романе (эти тексты были одновременно деревенской и военной прозой, чаще всего о «войне после войны») или об эстонском городском романе.
Поразительно, сколь разные формы удавалось находить писателям для высказывания о болезненных исторических сюжетах. Для этого мог подойти даже кулинарный трактат! Погружение автора этих строк в книги прибалтов началось во времена истфаковской юности с «Фальшивого Фауста, или Переправленной, пополненной поваренной книги — П. П. П.» латышского писателя Маргериса Зариньша (1910–1993 гг).
Неплохо знакомый с историческим контекстом (с «буржуазным периодом» истории балтийских стран — временем между двумя мировыми войнами), по прочтении «Фауста...» ваш автор задумался о том, что если бы такого знакомства не было, то этот художественный текст сформировал бы первичные представления о событиях, происходивших в Латвии в 1930–1940-х гг., привнося в их понимание что-то такое, что было невозможно отыскать в научных статьях и монографиях. Так интерес студента-историка к «болевым точкам» прошлого сместился к преломлению их в пространстве советской прибалтийской литературы.
Маргер Заринь. Фальшивый Фауст. Романы. М: Известия, 1984. Перевод с латышского Валды Валковской
 Заринь (1910–1993) творил всю свою взрослую жизнь, и к тому моменту, когда решил вплотную заняться литературой (это произошло на шестом десятке), он был хорошо известным в Союзе композитором. Привыкший к экспериментам в музыке, писатель не изменил себе и в новой сфере творчества: «Фальшивого Фауста...» критики называют первым постмодернистским романом латышской литературы. Нередко сравнивают его и с «Мастером и Маргаритой» Булгакова.
Заринь (1910–1993) творил всю свою взрослую жизнь, и к тому моменту, когда решил вплотную заняться литературой (это произошло на шестом десятке), он был хорошо известным в Союзе композитором. Привыкший к экспериментам в музыке, писатель не изменил себе и в новой сфере творчества: «Фальшивого Фауста...» критики называют первым постмодернистским романом латышской литературы. Нередко сравнивают его и с «Мастером и Маргаритой» Булгакова.
Мировая литература знает и другие примеры, когда в столь зрелом возрасте в нее вторгались рисковые дерзатели. Но поднимал ли кто-нибудь еще на такую высоту не самый высокоизящный литературный жанр — сборники рецептов и предписаний кухонного церемониала? Из-под пера Зариня льются кулинарные кантаты, симфонии чревоугодия и оратории обжорства, которые плавно перетекают то в раблезиански-гофмановское повествование о похождениях неясно из какого времени менестрелей-вагантов-подмастерий-таперов-студиозусов, то в марловско-гетевские вариации на тему человеческих страстей и контрактов с дьяволом — со своими Фаустом, Мефистофелем и Маргаритой.
«Фальшивый Фауст» — мощнейший роман о молодости, любви, дружбе и предательстве. Но он еще и о диктатуре, питающейся исторической мифологией и лженаукой, а также продуцирующей их. Один из главных персонажей романа — Янис Трампедах — демонстрирует, что идеями превосходства одной крови или культуры над другой склонен проникаться не только малообразованный лавочник, но и вполне себе интеллектуал, даже со степенями и научными регалиями: мало ли в рейхе было лояльных драматургов или ученых? Осознание этого ввергает в ужас, но помнить об этом важно и необходимо.
Вполне возможно, что Заринь, создавая эту полистилистическую буффонаду, на самом деле писал вещь, в которой насмехался не только над оккультными практиками и грядущим триумфом лженауки, не только над культом искусственной молодости, но и над фетишизацией еды. И удивительно, что он спрогнозировал ее приближение задолго до появления каскадов фотографий завтраков в социальных сетях или телевизионных кулинарных битв.
«Цауна не разумеет ни одного слова по-французски, заказывает наугад (не будет же он показывать мажордому, что ему невдомек, какое брашно выбрал!). Позже, когда выясняется, что первая подача — черепаховый суп, Цауна стервенеет и посылает за шеф-поваром. Велит дать ответ, в самом ли деле похлебка сварена из черепах, может в нее добавили жаб или другой какой нечисти? Шеф-повар клянется, что суп сварен из чистопородных рептилий».
Зигмунд Скуинь. Кровать с золотой ножкой. Легенды рода Вэягалов. М: Советский писатель, 1987. Перевод с латышского Сергея Цебаковского
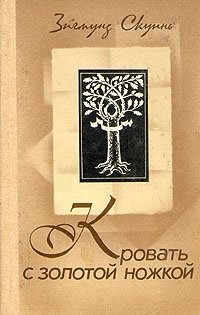 Зигмунд Скуинь (1926–2022) — публицист, драматург, прозаик и переводчик с довольно счастливой литературной судьбой: тиражи, переводы, экранизации и государственные премии — и в СССР, и в постсоветской Латвии он известен и читаем. Писатель не избежал немецкой мобилизации в легион, что не помешало ему в дальнейшем стать членом ВЛКСМ, быть «выездным» и получать почетные звания.
Зигмунд Скуинь (1926–2022) — публицист, драматург, прозаик и переводчик с довольно счастливой литературной судьбой: тиражи, переводы, экранизации и государственные премии — и в СССР, и в постсоветской Латвии он известен и читаем. Писатель не избежал немецкой мобилизации в легион, что не помешало ему в дальнейшем стать членом ВЛКСМ, быть «выездным» и получать почетные звания.
Как и «Фальшивый Фауст...», эта книга все время стремится перешагнуть черту и оказаться на территории магического реализма, но как бы не решается на это в самый последний момент. Листать ее — будто расторопно брать в руки антикварные чудесности: кажется, что вот этот-то корабельный сундук точно имеет двойное дно, и в нем, конечно, должна быть карта; или вот эта привезенная из южных морей ритуальная маска обязательно таит в себе какое-нибудь волшебство.
Небольшой приморский городок на границе с Эстонией живет-бурлит своей жизнью: люди рождаются, влюбляются (кто в кузена, а кто в жену брата), дерутся, изменяют, учатся, строят родовые гнезда, скрываются от властей, спиваются, сказочно богатеют и все теряют, ищут счастья за тысячи километров от дома и возвращаются, делают мировую революцию, сходят с ума, погибают. Тем временем шведская Ливония незаметно становится Лифляндской губернией Российской империи, а «буржуазная» Латвийская Республика перековывается в советскую и социалистическую.
Детективно-приключенческая по своему названию, «Кровать...» — и семейная сага в духе Гарсиа Маркеса, и роман-карусель, в котором веселые контрабандисты с легкостью готовы переквалифицироваться в перевозчиков нелегальных прокламаций, милая костельная хористка может оказаться лихой налетчицей на банки, а советские граждане делаются искателями сокровищ или подделывателями казначейских билетов Госбанка СССР. Судовладельцы — торговцы колониальными диковинами и удачливые просоленные «морские волки», портовые шлюхи и потерпевшие кораблекрушение европейские аристократы, революционеры-подпольщики и легионеры-дезертиры, ловцы лосося, пасторы, диверсанты, связные RAF — поколение за поколением вертятся на этой раскручиваемой мамашей Клио карусели жители прибалтийского Макондо.
Скуинь написал роман о безудержном броуновском движении жизни, которая всегда сделает выбор за человека, отказавшегося выбирать. Эта веселая и скорбная карусель — одновременно колесо шальной лотереи, в которой и предки твои, и потомки могут оказаться кем угодно.
«Совершенно точно было известно, что в Тапачуле, Мексике, у ювелира-иудея Ноас за бешеные деньги заказал себе фарфоровое ухо, крепившееся не то посредством каучукового клея, не то вживленной под кожу золотой пластины. О ранении „меж пупка и колен“ речи велись туманные. Женщины, понятно, этой темы открыто не касались... Молва о том, что атрибут мужественности Ноаса укоротился наполовину, еще более усугублялась жуткими, хотя и не вполне достоверными подробностями... Ноас как человек семейный тем самым, разумеется, сбрасывался со счетов, ибо что положено быть здоровому и цельному, должно быть здоровым и цельным, а не расщепленным на пять ответвлений».
Владимир Бээкман. Коридор. Роман в письмах. Таллин: Ээсти раамат, 1984. Авторский перевод с эстонского
 Владимир Бээкман (1929–2009) был всесоюзно известной литературной фигурой. Писал стихи, прозу, публицистику, травелоги, киносценарии, мемуары, переводил на эстонский язык немецкую, шведскую (особенно он был очарован Астрид Линдгрен), датскую, латышскую, украинскую и русскую литературу.
Владимир Бээкман (1929–2009) был всесоюзно известной литературной фигурой. Писал стихи, прозу, публицистику, травелоги, киносценарии, мемуары, переводил на эстонский язык немецкую, шведскую (особенно он был очарован Астрид Линдгрен), датскую, латышскую, украинскую и русскую литературу.
В романе «Коридор», вероятно, впервые в советской художественной литературе затронута тема репатриации эстонцев немецкого происхождения — переселения их в 1939 г. из Эстонии в Германию (в Российской империи эти люди были известны как остзейские немцы, и это те, кого позднее нацисты числили как фольксдойче).
Данцигским коридором в международной дипломатии называли узкую полоску побережья Балтики, которая досталась Польше по условиям Версальского мирного договора. Этот польский коридор вклинивался в Германию, рассекая ее надвое, и, оккупируя Польшу в 1939 г., немцы утверждали, что возвращают себе несправедливо отобранное. «Очищенные» от поляков «вновь обретенные земли» заселялись фольксдойче, и глазами одного из них — юноши Вальтера, чьи немецкие предки еще во времена крестоносцев осели в Эстонии, — мы видим события, развернувшиеся в этой части Европы в 1939—1940 гг.
Роман представляет собой полные необъятного отчаяния письма Вальтера оставшейся в Эстонии невесте Еве. Фрустрированный юноша пытается сохранить человеческий облик в этом на глазах начинающемся мирокрушении, в этом новом Великом переселении народов (для некоторых — сразу к праотцам). Подчинившись кличу самопровозглашенных полубогов вернуться в «немецкое отечество», он постепенно осознает, что его конформизм стал одновременно предательством любимой девушки и отказом от себя самого. Обреченный сгинуть вскоре где-то в волховских болотах и никогда не увидеть больше свою Еву, в декорациях этой «странной войны» он еще мечтает о медовом месяце в Альпах, думает о том, как переслать невесте подарок — дорогие духи.
Абстрактные линии на карте, фетишизированные политическими маньяками, перекраивают и дробят живые человеческие аксиомы: и вот доброморальные фрау счастливы, что в шкафах пустых домов покинутых городов есть сервизы и варенье, а на кем-то прополотых грядках уже налилась редиска. Читатель с ужасом ловит себя на том, что и ему странной начинает казаться дружба между Вальтером и теми отверженными, которым в Новой Европе не предусмотрено «жизненного пространства», и чуть ли не естественной представляется осторожность (нейтралитет?) шведов, отказавшихся принять чехословацких евреев-беженцев и выславших их на сомнительной посудине в Балтику.
«Коридор» — почти антиутопия, апокалипсис, который на самом деле еще только пролог апокалипсиса. Это роман о склонности человека подчиняться даже заведомо преступным требованиям власти и о том, как легко люди верят в свою избранность (до поры до времени Вальтер и сам разделяет идею «исторической миссии» арийцев).
«Ты просто не представляешь, но нам в Эстонии никогда не приходилось всерьез думать о борьбе с врагами государства, саботажниками и английскими агентами... В Германии каждый гражданин обязан участвовать в такой борьбе... В Эстонии практически любой человек мог ругать правительство и обижаться на условия жизни — покуда он публично не употреблял порочащих кого-либо выражений, к нему никто не мог прицепиться, правительству хула частных лиц была что с гуся вода. Здешние власти волею обстоятельств куда строже, и малейшая непочтительность по отношению к рейху истолковывается как деятельность, наносящая вред интересам государства».
Миколас Слуцкис. Лестница в небо. М: Художественная литература, 1969. Перевод с литовского З. Куторги
 Миколас Слуцкис (1928–2013) — сценарист, драматург, прозаик и литературный критик.
Миколас Слуцкис (1928–2013) — сценарист, драматург, прозаик и литературный критик.
Действие романа «Лестница в небо» происходит в 1948 г., и в нем немало автобиографического. Яунюс, как когда-то и его литературный родитель, работает репортером. Оба благополучно пережили немецкую оккупацию Литвы в тыловой России, оба пробуют себя в писательстве.
Понятное Яунюсу и четко разграниченное в Вильнюсе двоемирие (это — передовое, социалистическое, а вот это — классово чуждое, отжившее свое) в селе неузнаваемо искривляется, превращаясь во что-то туманно-аморфное. Где «лесные братья»? Где «истребители» (военизированные отряды помощников НКВД из числа местного населения)? Как различить этих приходящих по ночам, пьяных и требующих еды людей с оружием?
Главным героем романа следует, однако, считать Юргиса — тихого и доброго, оглохшего от прятания в зимнем лесу парня, который в книге появляется лишь на считаные мгновения. Все остальное время мы видим его лишь в мечтах невесты и воспоминаниях сестры.
По советским законам Юргис — «лесной брат». Слуцкис не глорифицирует «освободителей Литвы», некоторые сцены их «борьбы» леденят кровь, и все же писатель отчетливо говорит о том, что отряды «лесовиков» могли пополняться не только добровольно, но и через шантаж и угрозы насилия над близкими. Машина власти, тотально всех подозревающая, одновременно неповоротливо-тупа и позволяет затаиться, легально жить и трезво рассчитывать шаги подлинным своим врагам.
Этот напитанный безысходностью роман, в котором люди не живут, а с перманентным ощущением ужаса движутся по дурному лабиринту, не может не окончиться трагически. Пожалуй, Слуцкис написал даже трагическую просопографию своих сверстников, вехи которой — сиротство, бега, умопомешательство, неразборчивый каток карательной системы, суицид.
«На чердаке пахло салом, которое окуривали можжевельником, пахло мокрыми опилками, ветром, и это были бы чудесные запахи из сказки, где-то слышанной или прочитанной сказки, если бы не внезапное грозное вторжение. Сначала Яунюс слышал, как кричали по-русски; он удивлялся, что Индрюнасы скрываются от говорящих по-русски людей: кто мог бы в деревне говорить по-русски, кроме военных и уполномоченных власти? Шум, крики прекратились, он уловил несколько громко произнесенных литовских слов, и снова стало непонятно, кто же эти люди... Внизу, как вода в колодце, журчала тишина, нарушаемая шагами, от которых у Яунюса что-то коченело внутри и слабели мускулы. Кто они, эти ворвавшиеся? Что им понадобилось среди ночи?..»
Йонас Авижюс. Хамелеоновы цвета. М: Советский писатель, 1982. Перевод с литовского В. Чепайтиса
 Ожидаете ли вы в советском соцреалистическом романе о городской творческой интеллигенции прочесть о прокрастинации, плагиате, адюльтере и полиамории? Йонас Авижюс (1922–1999), едва ли ни самый титулованный из литовских писателей 1970–1980-х, дарит такую возможность.
Ожидаете ли вы в советском соцреалистическом романе о городской творческой интеллигенции прочесть о прокрастинации, плагиате, адюльтере и полиамории? Йонас Авижюс (1922–1999), едва ли ни самый титулованный из литовских писателей 1970–1980-х, дарит такую возможность.
Тематика его произведений долго вращалась вокруг самых трагических сюжетов немецкой оккупации и послевоенной истории Литвы, и даже в романе о вильнюсской интеллигенции 1970-х гг. некоторые из них, чуть уловимо, но присутствуют.
Пытаясь уйти от деревенской прозы, Авижюс написал сначала роман о жизни мальчика-гимназиста в межвоенной Литовской Республике, а затем и «Хамелеоновы цвета». Читать этот роман — будто гулять по аллеям города Гедиминаса, который при любой власти говорил на десятке языков и в котором среди готических башен и базилик причудливо пристроились хрущевки и брежневки, а между угрюмых бюстов советских чиновников чувствуется вихрение призраков Мажвидаса, Чюрлениса и Юлии Жемайте.
Вильнюсские скульпторы, писатели, художники и актеры здесь бесконечно рефлексируют под алкоголь о природе искусства и периодически вступают в компромиссы с совестью творца. Меньше чем через полтора десятка лет эти лауреаты, почетные члены и заслуженные деятели разных цехов (но в первую очередь литераторы) сыграют важнейшую роль в деятельности «Саюдиса» — организации, сформировавшей параллельные союзным национальные органы власти, а пока в мастерских и ресторанчиках они много курят, пьют, флиртуют и спорят, и читателя тянет вступить в этот полилог, чтобы высказать и свое мнение о том, могут ли быть безобразные и пустые души у муз, вдохновлявших когда-то великих живописцев, или о том, как соотносятся между собой по затратам творческой энергии музыка, театр, литература и архитектура.
В романе много мыслей об отношениях между полами, пряно-рискованных ситуаций и любовных многоугольников. Много препикантных вопросов он порождает. Кто, скажем, присвоил себе право определять взрослым людям границы допустимого и формы общения? Что значит измена? Есть ли хоть один человек на планете, который за годы брака ни разу не был в мыслях не с супругом, и не остаемся ли мы всю жизнь хамелеонами даже с самыми близкими людьми?
Другая линия этой истории — обуржуазивание партийной литовской бюрократии. По контрасту с миром богемы, то воспаряющему к запредельным духовным высотам, то низвергающемуся в донную муть (что и означает жить и творить), партийцы холодно и методично вершат людские судьбы, не забывая позаботиться о себе. Авижюс касается в книге и проблемы мифологизации истории, показывая, как партизанский опыт просоветски настроенных литовцев мог конвертироваться в должности, квартиры, машины и дачи.
«Три года, проведенные в революционном подполье, с течением времени стали казаться ему тремя годами жесточайшей тюрьмы (на самом деле он успел посидеть всего полгода), где он вечно томился в карцере из-за неустанных схваток с администрацией за смягчение тюремного режима или объявлял голодовки до полной победы. Партизанские времена тоже стали живописнее: постоянные сражения с оккупантами, нападения на гарнизоны, вражеские эшелоны, один за другим летящие под откос... Борьба, борьба, только борьба, без отдыха, до победного конца! Модестас Тялкша напрочь забыл, что долгое время его отряд был малочислен, избегал боевых операций, опасаясь спровоцировать нападение гитлеровцев, и Томасу Диенису, политруку, нужны были немалые усилия, чтобы заставить командира отряда выйти в поход».
Художественные слепки чувств и эмоций, пережитых кем-то когда-то в прошлом, поразительным образом могут выровнять эмоциональные качели у нас сегодняшних. Литературный микроскоп может оказаться инструментом если не более надежным, то иногда более нужным, чем оптика историков. Перечитать сегодня советскую прибалтийскую художественную литературу будет полезно всем: людям и по эту, и по ту сторону границ.
